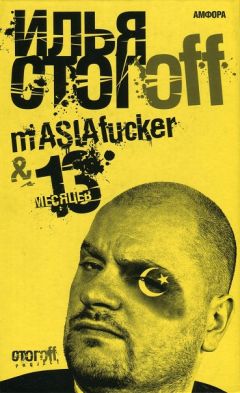Алла Андреева - Плаванье к Небесной России
Это детское по времени переживание, мне кажется, соединилось с тем отчаянием из-за «разбойничка» из няниной песни, над которым я так рыдала совсем маленькой. Так складывалась одна из черт характера — странная способность к сопереживанию, к отождествлению себя с тем, кому плохо, и настойчивое стремление изменить несчастную судьбу, исправить ее. Позже я не дочитывала книг с плохим концом, иногда зачеркивала такие концовки в книгах или изменяла на хорошие.
Глава 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Мы вернулись в Москву к зиме 1920/21 года, то есть в Москву эпохи военного коммунизма. Но прежде чем писать об этом, я расскажу, что знаю о своих корнях. Знаю я немного — новая власть учила скрывать, не помнить, молчать о предках. Мой папа — Александр Петрович Бружес — был наполовину датчанин, наполовину литовец. Линия его матери шла от остзейских баронов фон Дитмаров и была, видимо, обедневшей ветвью этого рода. Бабушка, папина мать, Елена Александровна, совсем юной вышла замуж за сына жемайтийского мельника. Жемайтия — это та часть Литвы, которая была крещена лишь в XVII веке, но еще и в начале XX века там пылали ритуальные костры вайделоток, языческих жриц огня. Кем был человек, за которого вышла моя бабушка, тогда шестнадцатилетняя красавица? Все эти вещи при советской власти рассказывать было не принято. Насколько я могла судить, брак оказался неудачным, сын литовского мельника, выдававший себя за сына помещика, был унтер-офицером. Бабушка ушла от него. Он умер, когда папе было три года. Бабушка вновь вышла замуж за ростовского бумажного фабриканта Степана Ивановича Панченко, стала очень богата, путешествовала по всему свету, побывала даже в Австралии. Эту красивую русскую даму знали в Париже. Революция застала их за границей. Папин отчим, потеряв все свое состояние, умер от горя. Бабушка не стала впадать в отчаяние, пошла в гувернантки, воспитывала чужих детей и так вот прожила жизнь. А мой папа всегда оставался в России.
Когда мне было десять лет, бабушка отыскалась в Чехословакии. Позднее она не писала, знала: сюда писать нельзя. Связь с ней возобновилась уже после войны, и в 1962 году папа успел съездить в Чехословакию, повидаться с ней, а я не успела: бабушка умерла. Умерла она 94 лет с совершенно ясной головой.
Мама моя русская, Юлия Гавриловна Никитина. Семья ее происходила из Новгорода, но судьбе, наверное, показалось мало для меня этой смеси, и она прибавила маме еще и цыганской крови. История эта очень бесхитростная. Мамины прадед и прабабушка жили под Петербургом в Колпине. Он был богатым подрядчиком, и не хватало им, как в сказке, только детей. Как-то мамина прабабушка нарядная, в прекрасной шали, сидела на скамейке у ворот и болтала с приятельницами. Мимо шли цыганки, одна из них — с ребенком на руках. Конечно, они окружили скамейку, началась обычная история с золочением ручки и гаданием. Вдруг та цыганка, что была с ребенком, говорит моей прапрабабушке:
— Слушай, дай мне твою шаль.
— Отдай ребенка — получишь шаль.
— Да на!
Больше та цыганка никогда не появлялась. Отдала ребенка, взяла красивую шаль и пошла дальше.
Я как-то в шутку сказала своим подругам, что во мне нет ни единой капли рабской крови: в Литве не было крепостного права, в Дании тоже, и потом датские мои предки были баронами; цыгане уж, конечно, жили без крепостного права; и русская кровь у меня новгородская — вольная. Этим, может быть, объясняется многое в моем характере.
Эта цыганочка, выменянная за шаль, моя прабабушка. Она была красива, богата, хорошо выдана замуж, и единственное, что мы с братом о ней знали, это ее страсть к посуде. Как-то я пожаловалась ему на глупую привычку постоянно покупать ненужные чашки и кружки, а брат, засмеявшись, сказал:
— Разве ты забыла мамины рассказы о нашей прабабке-цыганке, которая с ума сходила по посуде, только покупала она не чашки и кружки, а сервизы.
Маминых родителей я видала, но не помню. Они жили в Петербурге, а мои отец и мать переехали в Москву. Отец — типичный интеллигентный атеист начала века. Многие ученые тогда были такими. Я за всю свою жизнь не встретила человека более христианского поведения и большего благородства, чем этот неверующий физиолог. Папа был очень музыкален, он учился у Римского-Корсакова и долго колебался между наукой и музыкой, но выбрал науку. У мамы был от природы поставленный прекрасный голос — драматическое сопрано очень красивого тембра и большого диапазона. Поэтому музыка в нашей семье была всегда, как если бы мы жили на берегу большой прекрасной реки, все время слыша ее течение. Папа закончил в Питере биологический факультет Петербургского университета и поступил в Военно-медицинскую академию. А потом произошло вот что: студентов академии обязали носить форму и отдавать честь высшим чинам. Группа питерских студентов, по-видимому, прирожденных демократов, демонстративно перешла на медицинский факультет Московского университета, в их числе и мой папа. Я как тогда, так и сейчас не понимаю, что оскорбительного в обязанности отдавать честь высшему офицерству, но из-за этого я и мои братья родились в Москве, которую я очень люблю, даже и такую изуродованную, как сейчас. А мама так и не смирилась с переездом в Москву. Ее мечта стать певицей не осуществилась. В Петербурге она начала понемногу выступать, в Москве же ее никто не знал, да тут еще я родилась, уж не говоря о революции… В нашей совсем не религиозной семье вкусно и красиво праздновали Рождество и Пасху. И меня, а позже брата Юру, конечно, крестили. Мама была живой, веселой, темпераментной, очень доброй, вспыльчивой, никогда никому не сделавшей ни капли зла, но нелегкой в жизни.
Итак, мы вернулись из Орловской губернии в голодную, заснеженную послереволюционную Москву. Советская власть уже начала показывать свою страшную личину: уже гибли священники, дворяне, офицеры; начался разгром Церкви — так называемое изъятие священных предметов из храмов. Уже появились коммунальные квартиры — дьявольское изобретение большевиков, не менее страшное, чем концлагеря. Последние тоже уже были — 5 сентября 1918 года Ленин подписал указ об их учреждении. Но я, шестилетняя, ничего этого не знала. Сейчас странно даже подумать, что такой ребенок спокойно ходил один по городу. Мы поселились на Плющихе, а детский сад, в который меня отдали, находился на Девичьем поле, и я каждый день ходила туда одна. Да и гулять по городу меня спокойно отпускали, и я много бродила по той Москве.
Одна я ходила и на Спиридоновку, где жила семья тети — маминой сестры. История этой семьи — тоже штрих того времени, военного коммунизма. Мой дядя, Кениг Евгений Леонидович, был очень крупным и знающим мелиоратором. Он женился на одной из маминых сестер, а когда она умерла от тифа, женился на второй сестре. Первой, умершей, тети Оли я не помню, а она была моей крестной матерью. Мой крестный отец, папин двоюродный брат Евгений, пропал без вести в первую мировую войну. Это тоже рука судьбы, что я осталась в жизни без крестных, Ольги и Евгения. На Спиридоновке, когда я приходила туда, жили уже вторая сестра, тетя Аля, дядя Женя и их дети — Галя и Леонид. А попала эта семья в Москву так: петербуржцы, как и мои родители, они пытались в гражданскую войну эмигрировать и добрались до Крыма, чтобы бежать с Врангелем. Но не успели — в Крым вошли красные. Дядю арестовали и несколько раз выводили на расстрел, но потом вдруг пришла телеграмма от Ленина, который распорядился поименно привезти в Москву нужных новой власти специалистов, а остальных пленных расстрелять. Так вместо эмиграции и казни семья Кенигов очутилась в Москве.