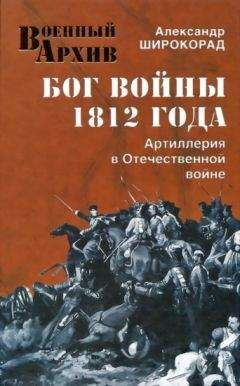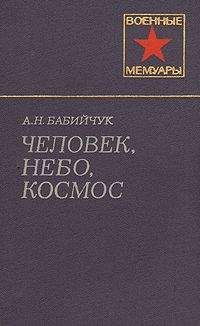Даниил Данин - Нильс Бор
Вот какого рода духовные заботы часто мешали этому студенту с серьезными глазами вовремя выходить навстречу мячу, когда он удостаивался чести играть вратарем в университетской команде. И в кругу этих же мыслей вдруг замыкалось все его внимание, когда в университетской лаборатории он забывал во время опыта о самом опыте, и раздавался взрыв, и руководивший занятиями молодой Нильс Бьеррум восклицал: «Это, конечно, Бор!»
То были размышления, одолевавшие его и позднее — всю жизнь!
И когда с течением лет он действительно нашел свой путь для толкования таких безнадежно-противоречивых проблем, люди, близкие ему с юности, восприняли это без удивления. Эдгар Рубин был одним из таких людей. «Он всегда прекрасно понимал Нильса», — сказала о нем фру Маргарет Бор. Так вот, когда во второй половине 20-х годов Бор провозгласил свой знаменитый Принцип дополнительности, Эдгар Рубин заметил однажды:
— Послушай, да ведь ты утверждал нечто подобное и прежде — начиная со своих восемнадцати лет!
Начиная с восемнадцати? Так, стало быть, уже с первого курса? Но всего неожиданней, что Рубин еще и ошибся на целых два года. Леон Розенфельд, чье свидетельство опирается на слова самого Бора, удостоверяет:
«…Такие умозрения овладели им очень рано; из разговоров с Бором я мог заключить, что ему было около 16 лет, когда он отверг духовные притязания религии и его глубоко захватили раздумья над природой нашего мышления и языка»
Так, еще до семинаров у Хеффдинга и до Эклиптики, появились у него стимулы написать «кое-что философское». Их было по меньшей мере два. И надо вернуться на минуту назад — к рубежу, разделившему отрочество и юность нашего копенгагенца.
К слову сказать, как провести границу, у которой кончается детскость мысли и начинается взрослость сознания? С этим-то неуследимым рубежом был связан первый из стимулов.
…Западное христианство придумало обряд конфирмации — подтверждения веры. Вполне оправданный обряд: ведь таинству крещения подвергается младенец — существо, еще ничего не знающее о мире; для искренности приобщения к церкви просто необходимо, чтобы настал день, когда это существо по доброй воле и собственному пониманию либо подтвердит навязанную ему веру, либо отвернется от нее. Короче, до конфирмации надо дорасти: духовно созреть. Довольно убедительный рубеж между отрочеством и юностью. Его предстояло перейти и отроку-лютеранину Нильсу Бору.
Позднее крещение прошло небесследно для работы его детской мысли, жаждавшей всепонимания. Он стал задумываться над случившимся. Его сделали верноподданным таинственно-всемогущей силы. Хотя ни отец, ни мать, ни тетя Ханна никогда не говорили о боге, другие люди вокруг убежденно ждали от этой силы добра. Очевидно, добра не хватало в мире. Этой силе приписывали красоту и слаженность всего совершающегося в природе. Действием этой силы объясняли все необъяснимое. И где-то к 14-15 годам он всерьез проникся религиозным чувством — той самой верой, в которую был посвящен совсем недавно. Это было неожиданностью для домашних. Но они молчали. Даже отец молчал. Да и как он смог бы растолковать этому бесконечно правдивому мальчику, зачем же его крестили, если теперь вдруг решили внушать ему безверие?! Оставалось предоставить мальчика самому себе.
И вот, предоставленный самому себе, Нильс едва ли не целый год (в отрочестве — вечность!) ходил поглощенным религиозными переживаниями. И замечал, что теперь ко всему, о чем он думал, примешивалась мысль о какой-то сущности, не принадлежавшей самим вещам. Мир наполнился тайной. Мысль наполнилась тайной. Тайной наполнились слова. И была она недоступной раскрытию, ибо по определению нельзя было оказаться проницательней всеведущего.
Позже ему вспоминалось это как наваждение. Он переживал мысли как чувства. Одно ясно: тайна бога была в его отроческом восприятии высокой и оттого захватывала, но она не возвышала его разум и оттого смущала. Чем далее, тем более смущала. И потому он думал о ней неотступно. Меж тем приближалась крайняя пора конфирмации. В лютеранстве для нее не обозначены точные сроки, но шестнадцатилетний возраст — это уже более чем достаточно. И настал день, о котором фру Маргарет рассказала с его слов так:
«…И вдруг все это прошло. Все это превратилось для него в ничто. И тогда он пришел к отцу, который оставил его прежде наедине с этим наваждением, и сказал:
— Я не могу понять, как все это могло меня захватить. Отныне это ничего не значит для меня!
Отец слушал его и снова молчал. Только улыбался. И Нильс потом говорил: «Та улыбка научила меня большему, чем любые слова, и я никогда не забывал ее».1
Так на рубеже отрочества и юности он дал взамен христианской конфирмации совсем другой обет — верности разуму. Место непознаваемой тайны бога заступили познаваемые тайны мира. И он, столь рано и столь самостоятельно переживший соблазны религиозного миропонимания, задумался над природой человеческого мышления вообще. И шире — мышления и языка, созданного для выражения не только истин, но и заблуждений. Оттого-то впоследствии он прямо связывал начало начал своих философских исканий с тем просветлившим его внезапным отречением от бога.
И было еще одно событие в духовной жизни мальчика, задолго до семинаров Хеффдинга и до Эклиптики столкнувшее его живую мысль с непредвиденными сложностями узнавания мира.
…Когда по прошествии десятилетий на стажировку к Бору стали приезжать молодые теоретики из разных стран, они подвергались своеобразному ритуалу посвящения: им надлежало познакомиться с сочинением Пауля Мартина Меллера «Приключения датского студиозуса». Не все и не сразу понимали — зачем? Это была шутливо-романтическая проза начала прошлого века. К физике она ни малейшего отношения не имела. П.-М. Меллер (1794-1838), по словам Бора, «самый датский из всех датских поэтов и философов», почитался классиком. Его проходили в школе. Но им-то, вполне взрослым людям, по какой нужде надо было перевоплощаться в датских гимназистов? Однако довольно скоро молодым теоретикам делалось непонятным уже совсем другое: могли ли школьники по достоинству оценить злоключения меллеровского героя?
Это были злоключения мысли молодого лиценциата, начавшего мыслить о том, КАК он мыслит. Пытливый бедняга, заблудившийся в своей высокой учености, признался кузену, что сходит с ума от безвыходных противоречий… Разве для того, чтобы возникла мысль, человек не должен сначала прийти к какому-то представлению о предмете мысли? Но представление само уже есть итог раздумья. А это раздумье не могло не иметь в своей основе предваряющую мысль. А та, в свой черед, должна была основываться на некоем представлении. Иными словами, мысль должна была существовать до своего появления. «Стало быть, каждая мысль, — сказал в отчаянии лиценциат, — кажущаяся плодом мгновенья, заключает в себе вечность». И еще: он постепенно осознал логическую безнадежность попыток познать самого себя. Он ведь должен был бы для этого раздвоиться: стать предметом изучения и — одновременно! — изучающим инструментом. «Короче, — в полном смятении сказал лиценциат, — наше мышление становится драматическим и равнодушно действует в дьявольском заговоре с самим собой, и зритель снова и снова превращается в актера…»