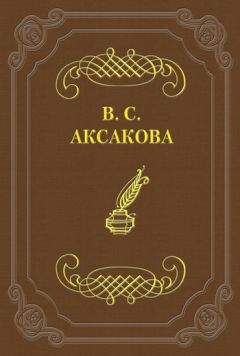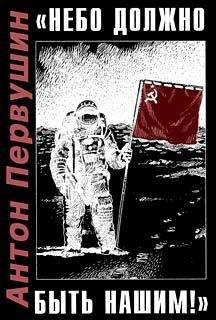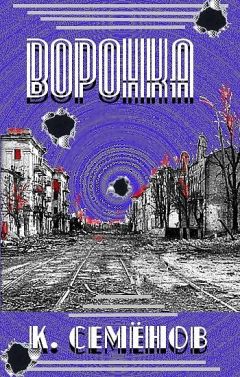Петр Бартенев - Воспоминания
По окончании курса «Ларич» поехал к отцу в Могилевскую губернию в Ставробыховский уезд, несколько лет сряду был судебным следователем, простудился на следствии и умер, не доживши и 30 лет от роду. За год до его смерти ни с того ни с сего присылает он мне хорошую большую чашку и пишет, чтобы я пил чай из нее и его помнил. На моем рабочем столе висел магнит и чашка случайно была поставлена под ним. Вдруг, вследствие какого-то сотрясения или захлопнутой двери, приставленная к магниту железная печать моя оборвалась и попала прямо в чашку, которую и разбила. Позднее оказалось, что в этот самый день и час Казанович скончался. Его очень любил Катков[18], и, когда я много лет спустя просил его дать прибыльное литературное занятие В. К. Истомину, я его убедил согласиться тем, что сказал: «Это второй Казанович». Таким казался мне тогда, и не одному мне, Владимир Константинович. Катков проложил мне дорогу к благосостоянию, но позднее К. А. Иславин, находившийся при Каткове в одинаковой секретарской должности с Истоминым, мне сказал, что однажды Катков воскликнул об Истомине: «Кто меня от него избавит?» Жена моя метко прозвала его «Блудячим Огоньком».
На первых курсах в университете в занятиях я особенно сошелся с сыном священника Замоскворецкой церкви Петра и Павла Соколова Петром Алексеевичем, носившем по матери фамилию Безсонова (таков был обычай у духовенства; старший брат Михаил звался по отцу Соколовым) и Александром Николаевичем Прейсом, младшим братом известного Петербургского профессора славянских наречий. Прейс, как и Безсонов, жил тоже очень далеко от меня, на Донской улице в доме родителей. Мы сходились в университете, где поочередно клали фуражки наши на первой скамейке от кафедры, чтобы лучше слышать слова профессора и записывать лекции. Но было еще другое место нашего свидания, это на Спиридоновке, в доме позднее князя Волконского; внизу этого дома жил учитель Греческого языка во 2-й гимназии Каэтан Андреевич Коссович. Он был уроженец города Слуцка и до такой степени беден, что нанимал себе помещение на чердаке у еврея; там были развешаны еврейские шубы и теплые платья, и молодой Коссович ими укрывался. В сущности он был белорусе, а не поляк. Николай Павлович, мечтая помирить поляков с русскими, приказал, чтобы польских юношей помещали на казенный счет при наших университетах. В 1829 году, когда последовало воссоединение Униатов, к Коссовичу пришел полицейский чиновник с предложением присоединиться, и тот, конечно, записался в православие, а по окончании курса должен был в течение известного срока прослужить учителем гимназии. Способность к языкам у него была удивительная; кроме отличного знания языков новых и обоих классических, он занялся языками Восточными, читал свободно по-еврейски и арабски, но в особенности полюбил санскрит, этого праотца языков индоевропейских, с его богатою словесностью, с этими поэмами, в несколько сот тысяч стихов, со многими произведениями драматическими. В «Московском Сборнике» 1847 года поместил он «Торжество светлой мысли», а небольшую поэму «Сказание о Дгруве» издал отдельною книжкою и посвятил красавице Елизавете Николаевне Делоне, дочери француза-доктора и некоей Тухачевской, которая была замужем за богатым Петербургским купцом Кусовым, но покинула его (сыном Петербургского головы). Эта Лиза Делоне влюбила в себя многих, в том числе и Михаила Никифоровича Каткова, который думал на ней жениться, вел с нею большую переписку в те годы, когда она с отцом, сделавшимся инспектором врачебной управы, жила в Симбирске; но когда Делоне вернулась в Москву, Катков разглядел, наконец, ее кокетство, сразу прервал с ними всякие сношения и не замедлил жениться на только что прибывшей из Одессы княжне Софии Петровне Шаликовой. Коссович же продолжал быть ее обожателем в течение многих лет, пока она в Петербурге не вышла, наконец, замуж за известного психиатра Болинского, от которого имела много детей и который, говорят, бивал ее.
Мое знакомство с Коссовичем (счастливое событие в моей жизни) началось с моего университетского товарища Степана Никитича Тьер-Мыкыртычьянца (профессор Клин, бывало, затрудняясь произнести его имя, обращаясь к нему, говорил по латыни tu cujus nomen difficile est dictu, т. е. ты, коего имя трудно выговорить). Родители его, богатые Закавказские из Орбубата Армяне, вели торговлю шелком с Москвою и вместе с тюками шелка поручили приказчикам своим отвезти в Москву и мальчика-сына для обучения. По какому-то случаю с этими приказчиками сошелся Француз Реми, у которого было в Москве учебное заведение и, пользуясь Армянским богатством, взял к себе мальчика. Коссович, узнав о том, просто из милосердия выручил мальчика из Французских лап, и прикащики поселили его с собою, для чего нанята была прекрасная квартира рядом с церковью Георгия Победоносца на Нижней Лубянской площади. Кое-как Степан Никитич определился в студенты словесного факультета и даже кончил курс, никогда не зная не только спряжений, но и склонений латинских. Тут выручали мы его, на экзаменах вызывали по азбучному порядку: Бартенев, Безсонов экзаменовались гораздо раньше того, чья фамилия начиналась буквою М. Они обыкновенно брали у профессора билеты не один, а два и, сдавши экзамен, уводили Мыкыртычьянца в нижние сени, где заставляли его наизусть учить, что надо было отвечать по украденному билету. С грехом пополам он что-то бормотал, и ему ставили отметку 3. После каждой такой проделки обязан он был вести нас в Сокольники и угощать чаем а разными снедями у самоварницы.
Под диваном у него в квартире всегда находился мех с прекрасным Кахетинским вином, стоило только нагнуться и нацедить стакан. К этому удовольствию присоединялось курение отличнейшего табаку, столь нежного, что им оправдывалось старинное допетровское выражение пить табак. Степан Никитич а другой Армянин по часу валялся на широком диване и позднее А. Н. Костылев сочинил на них такие стихи:
In Степан Никитич Stube
Steht ein prächtiger Diwan
Drauf halb liegend sitzt der Bude
Neben ihm Миансарьянц.
Und Sie liegen und Sie schwatzen
Teder raucht sein Papirosse
Sieh: Da sind Закревский Rosse
Und sie springen auf wie Katzen
Blickend gar zu diplomatisch
Fährt die alte Fülle dort…
Und aufe nene Asiatisch
Liegen sie urd schwatzen fort[19]
По желанию Армян-прикащиков Коссович продолжал некоторое время опекать Тер-Мыкыртычьянца и у него встретил меня. Он был другом поэта Языкова[20] и восторженно читал стихи его. У Языкова оценил и полюбил его А. С. Хомяков[21], женатый на сестре поэта Екатерине Михайловне. Другая сестра, Прасковья Михайловна была за богатым Симбирским помещиком Петром Александровичем Бестужевым-Рюминым. Она просила Хомяковых сыскать студента к ним на лето для приготовления в 3-й класс гимназии среднего сына Мишу. Хомяков обратился к Коссовичу, и тот назвал меня. В мае 1849 года Коссович повез меня на Собачью Площадку в маленький кабинет Алексея Степановича[22], он только что вышел из спальни в шелковом ватном халате с привешенными на шнурке ключами и с густыми взъерошенными черными, как смоль, волосами. Могу повторить за себя слова одного из поклонников Магомета: он схватил меня за сердце, как за волосы, и не отпускал больше прочь. Любовь и благоговение его памяти и до сей минуты не покидают меня. Переговоры были самые короткие. Старший сын Бестужева, студент Владимир, повез меня в Сызранский уезд в село Репьевку (ныне станция железной дороги), где за 75 руб. платы прожил я до конца августа. То было время Венгерской кампании[23]. Я возмущался в церкви, где Святейший синод не потрудился переменить молитву о даровании нам победы, сочиненную еще в 1812 году: выходило, что мы несчастные, и Венгерцы на нас нападают, тогда как мы задавили венгерцев в угоду Австрии. Прасковья Михайловна была очень добрая женщина, и мне у них было хорошо. Репьевка стоит на Волге, и стерляди во всевозможных видах съедались нами чуть ли не ежедневно. Сосед-помещик и родственник, тоже Бестужев, слыл вольнодумцем и подшучивал над Прасковьей Михайловной и ее супругом, оскорбляя их благочестие. Жил у него в гостях какой-то дворянин и ежедневно около 11 часов утра Бестужев говорил ему: monsieur Cavegnac (имя известного тогда французского генерала) ne voulez vous pas de l'ean de vie? И тот отвечал ему: Très volortier, monsieur[24]. Ученик мой Миша был не из ретивых, однако экзамен свой выдержал, привезенный в Москву отцом. Мы, т. е. он с сыном и я, поместились на углу Собачьей Площадки и Большого Николо-Песковского переулка во флигеле Хомяковского дома над лавкой. Когда Бестужеву надо было возвращаться, он сказал мне: я помещаю Мишу у Хомяковых в большом доме наверху, хотите жить там же? Платы вам не будет никакой, но Вы иной раз не откажетесь помочь Мише в уроках, и Алексей Степанович об предуведомлен. Я тотчас согласился и мне пришлось до весны 1850 года прожить в постоянном общении с Хомяковым. В следующем году открывалась в Лондоне первая Всемирная выставка, чтобы дать Коссовичу возможность познакомиться с прибывшими туда Индейцами, Хомяков поручил ему отвезти на выставку свое изобретение, паровую круговращательную машину, и для этой поездки дал ему 5 тысяч рублей. (Позднее в Петербурге на книгах Коссовича видел я надпись: благодеяние А. С. Хомякова). Каэтан Андреевич передал мне потом, что он в Лондоне сблизился с одним индейским семейством и в нем нашел себе взаимное обучение: молодую Индианку учил он по-гречески, а она его своему языку. Коссович чуть не влюбился в нее, но, бывало, она откроет ладони, и они все желтые, что ему, как Европейцу, внушало чувство отвращения и тотчас охлаждало его влюбчивость. Я забыл сказать, что еще в 1849 году я, Безсонов и Прейс несколько месяцев сряду учились у Коссовича Санскриту и к Рождеству принесли ему в подарок ящик сигар. Он страшно переконфузился и объявил нам, что сам будет нам покупать сигары, лишь бы мы не бросали учиться. Я запасся Санскритским лексиконом Боппа и до того преуспевал, что прочел целых пять небольших Санскритских произведений, а на 2-м курсе подал Шевыреву в виде сочинения статью о разнице подлинной поэмы «Наль и Дамаянти» с переводом, который сделал Жуковский по Немецкому переводу Рюккерта. Эти занятия прекратились с отъездом Коссовича в Петербург на должность редактора ученых работ при Императорской Публичной Библиотеке, созданную для него благодаря графу Блудову[25], который его узнал, приезжая в Москву на освящение Кремлевского дворца. Когда Коссович ездил в Лондон, он навестил Жуковского во Франкфурте; тому нужен был учитель для двух детей его, Коссович наговорил обо мне, и Жуковский написал в Москву к Кошелеву[26], чтобы наведаться, что я за человек (письмо это напечатано в приложениях биографии Кошелева). Пока шли переговоры, не удавшиеся потому что Жуковский сам все собирался возвратиться в Россию, тот же Коссович поместил меня учителем к внукам графа Блудова, Ивану и Дмитрию Шевичам, с жалованьем в 3000 рублей ассигнациями. Из квартиры Коссовича в Петербурге, куда он меня вызвал из Москвы, переехал я к Лидии Дмитриевне Шевич[27] на Пантелеймоновскую улицу на углу Моховой в дом Плеске.