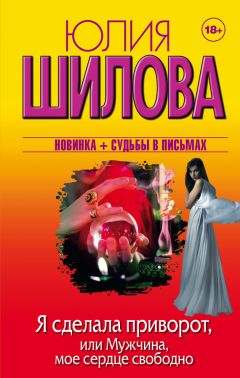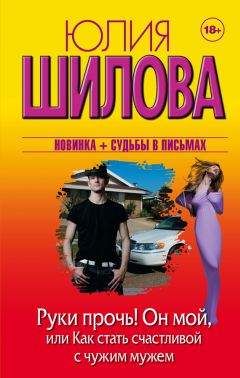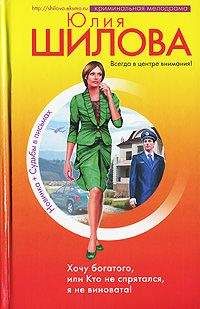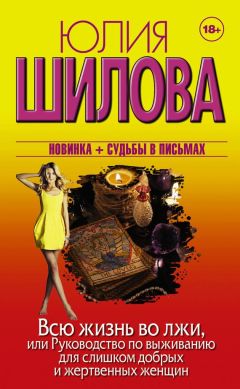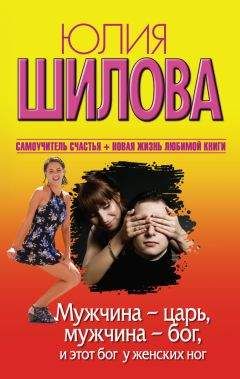Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни
«Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила в чернилах. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею. Платье на мне было розовое с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером в комедии „Глухонемой“ (партнером моим был актер Ечменев), он, увидев черную шею, чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно линяла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с премьершей театра, сидевшей в ложе, моим педагогом, случилось нечто вроде истерики… (это была П. Л. Вульф). И это был второй повод для меня уйти со сцены».
«…Спектакль-утренник для детей. Название пьесы забыла. Помню только, что героем пьесы был сам Колумб, которого изображал председатель месткома актер Васяткин. Я же изображала девицу, которую похищали пираты. В то время, как они тащили меня на руках, я зацепилась за гвоздь на декорации, изображавшей морские волны. На этом гвозде повис мой парик с длинными косами.
Косы поплыли по волнам. Я начала неистово хохотать, а мои похитители, увидев повисший на гвозде парик, уронили меня на пол. Несмотря на боль от ушиба, я продолжала хохотать. А потом услышала гневный голос Колумба — председателя месткома: „Штрафа захотели, мерзавцы?“ Похитители, испугавшись штрафа, свирепо уволокли меня за кулисы, где я горько плакала, испытав чувство стыда перед зрителями. Помню, что на доске приказов и объявлений мне висел выговор с предупреждением».
«Приглашение на свидание: „Артистке в зеленой кофточке“, указание места свидания и угроза: „Попробуй только не прийтить“. Подпись. Печать. Сожалею, что не сохранила документа — не так много я получала приглашений на свидание».
«Совсем молодой играла Сашу в „Живом трупе“, а потом Машу, но точно какую играла раньше — не помню.
Смущало меня то, что Саша говорит Феде Протасову: „Я восхищаюсь перед тобой“. Это „перед тобой“ мне даже было трудно произносить, почему „перед“, а не просто „тобой“ — только теперь, через 50 лет, вспоминая это, поняла, что Толстой не мог сказать иначе от лица светской барышни и что „я восхищаюсь тобой“ было бы тривиально от лица Толстого.
Федю играл актер грубой души, неумный, злой человек, к скорости он попал в Малый театр и там он был своим, мы же в нашей провинции звали его Малюта Скуратов — Скуратов была его фамилия или псевдоним. Он всегда на кого-то сердился и кричал „бить палкой по голове“, а после того, как сыграл Павла Первого, уже кричал „шпицрутенов ему“. Это относилось к парикмахеру, портному, бутафору и прочим нашим товарищам, техническому персоналу».
«Мне повезло, я знала дорогого моему сердцу добрейшего Константина Андреевича Тренёва. Горжусь тем, что он относился ко мне дружески. В те далекие двадцатые годы он принес первую свою пьесу артистке Павле Леонтьевне Вульф, игравшей в местном театре в Симферополе. Артистке талантливейшей. Константин Андреевич смущался и всячески убеждал актрису в том, что пьеса его слабая и недостойная ее таланта. Такое необычное поведение автора меня пленило и очень позабавило. Он еще долго продолжал неодобрительно отзываться о своей пьесе, назвав ее „Грешница“. Дальнейшей судьбы пьесы — не помню».
Летом 1920 года, когда фронт был еще проницаем, Раменская совершила паломничество в Ясную Поляну — в усадьбу и к могиле Льва Николаевича Толстого. Прошло уже десять лет со дня его кончины, Софьи Андреевны уже не было, но в Ясной Поляне сохранился стиль их семьи. По яснополянскому дому Раневскую водил уцелевший дворецкий Толстого, величественно показал ночное ведро — Толстой сам спускался с ним по лестнице, не разрешал прислуге, а в ванной был показан зеленый вегетарианский обмылок, которым пользовался сам граф, пальмовое мыло, привозимое ему из Италии Чертковым. Раневская попросила робко: «Можно мне немножко помылиться?»
На обратном пути из Ясной Поляны — в дорожной гостинице — Раневской приснился сон: Толстой входит в комнату, садится рядом. «Проснулась и почувствовала жар. У меня началась лихорадка имени Толстого».
Летом 1923 года. У Раневской болезнь нервов — начался страх сцены, страх улицы.
Дочь Павлы Леонтьевны Ирина экстерном закончила гимназию с золотой медалью. Жизнь в родной семье казалась естественной, единственно возможной. Это ее связь, ее «пуповина». Ирина любила мать, подарила ей свое фото с надписью: «Моей любименькой родной мамочке дарю свою, приукрашенную фотографом физиономию. Сохрани ее и, изредка посматривая, думай: „Вот какая бы у меня могла быть дочка!“».
Ирина любила свою Тату и их уже общий с Раневской дом.
Они поехали в Казань из Крыма через Москву — все вместе в театр на зимний сезон 1923/24 года. Голод кончился — нэп, нужны деньги. Казань, провинция.
Ирина Вульф поступила на юридический факультет Казанского университета. Все как будто естественно: студентка, занятия, подготовка дома к юридическим семинарам, учиться легко, но она — в университете, а вся семья — в театре. Все в доме насыщено сценой, все помыслы мамы с театром, с Фаиной, с актерами — горячие споры, репетиции, студия, которую вела Павла Леонтьевна. Любимая Тата тоже в театре — с Павлой Леонтьевной, с костюмами. Жизнь проходит стороной, она не нужна, домашний ребенок, девочка, безумно одинокая после своей крымской дистрофии, ее юридический — чужой им. Чужой им или и ей — обожающей театр с детства, мучительно влюбленной в свою мать — тоже? Если Ирина станет актрисой, может быть, вернутся золотые дни детства: она станет нужной, незаменимой своей маме — блистательной Павле Вульф? Ведь ей 17 лет, она любит театр, что же она делает в Казани? Зачем это юридическое испытание? Зачем эта безысходная ревность к Фаине?
Из Москвы — слухи о «перестройке», о новом театре, о спектаклях МХАТа…
Весной 1924 года Ирина Вульф, закончив первый курс Казанского университета, уехала в Москву в отчаянной решимости найти свою жизнь, свой театр, свой святой дом. Уехала поступать в театральную школу-студию МХАТа, к Станиславскому.
Конкурс огромный. Записавшихся было около 1000 человек, допущенных — 60. Конкурс проводил сам Станиславский.
Прошел экзамен. На первый курс была принята группа в 6 человек. Среди них — Нора Полонская, Нина Ольшевская, Ирина Вульф. Начались занятия. Часто во время уроков вдруг появлялся Станиславский, тихонько садился в углу и смотрел. Он сидел, а студийцы с громко стучащим сердцем продолжали упражнения и вдруг замечали, что он не смотрит на них, а с темпераментом делает вместе с ними лицевую гимнастику или упражнение на освобождение мышц…
С тех пор запомнились ей слова Станиславского: «Это вообще свойство малоспособных и малоразвитых художественных натур — всюду видеть преследование и интриги, а на самом деле не иметь в себе достаточно развитых сил прекрасного, чтобы повсюду различать и вбирать его в себя».