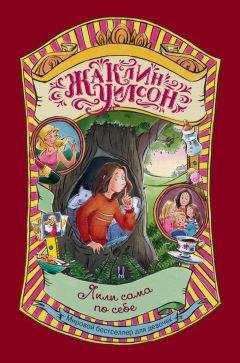Евгений Матвеев - Судьба по-русски
Ждем час… Ждем два… Тридцатиградусный мороз, ветер с обжигающей лицо крупой… Окаменели мои молчаливые бойцы…
Прежних своих курсантов я знал по имени и отчеству, кто женат, чьи родители или невеста на территории, оккупированной немцами, кто получает письма, кто ждет, чьи родители живы, чьи погибли… А этих и по фамилии не знаю…
С высотки, утопая в глубоком снегу, на рысях показалась группа всадников. Они, подумал я и скомандовал: «Построиться!» Курсанты лениво, без признаков малейшего волнения становились в строй, словно в очередь за махоркой. А меня колотило: что будет?!..
Первым спешился розовощекий, гладковыбритый, в новеньком полушубке и смушковой папахе генерал. За ним с трудом сполз с коня начальник училища — старые раны давали себя знать. Спешилась и свита — глазами ели высокое начальство.
Я, как положено, представился. Генерал зычно скомандовал:
— У обгорелой сосны — пулемет противника. Короткими перебежками вперед! — И перчаткой ткнул в курсанта: — Ты!
Белобровенький паренек вырвался из строя. Упал. Стал подниматься, запнулся о винтовочный ремень и снова носом клюнул в снег…
— Ты! — начал уже заводиться генерал, указывая на очередного бойца.
Этот, болтая рукавами длинной не по росту шинели, неторопливо передвигая ноги, двинулся на «пулемет»…
После четырех-пяти таких «Ты!» генерал, не скрывая нрава, свирепо прокричал:
— Командир взвода — вперед!
«Ну уж, дудки, — подумал я. — Это же мой конек, чудак!» И рванул, где броском, где ползком…
— Плохо! — неистово орало столичное начальство.
Такую издевательскую процедуру генерал проделал и с командиром роты, и с комбатом. Полковник Акимов, чуть шевеля побелевшими губами, проговорил:
— Товарищ генерал, вы унижаете офицеров перед лицом их подчиненных. Это недостойно…
Генерал резко взглянул на свою свиту, словно спрашивая: «Вы слышали, как мне дерзили?» Свита угодливо смотрела в глаза шефу. А главный инспектор, пытаясь сдерживать себя, уже не повышая голоса, но с нескрываемой угрозой сказал:
— С вами, полковник, разговор особый. А сейчас приказываю: командира взвода за брак фронту — под трибунал! Остальных офицеров понизить в звании на одну ступень!
Генерал со всей своей «инспекцией» на заиндевевших лошадях удалился в сторону Тюмени.
Угрюмо, печально возвращался я со взводом в казарму. Эти совершенно не знакомые мне парни, чувствуя себя виноватыми, топали, опустив головы, как на похоронах… Вдруг, ни с того ни с сего, в строю зазвучал дребезжащий тенорок:
Кони сытые бьют копытами,
Боевая честь нам дорога!..
Что-то кольнуло в сердце: подбодрить меня хотят. Но песню никто не поддержал. Еще отчетливее слышалось побрякивание оружия, лопаток, котелков…
Училище гудело: в моем положении мог оказаться любой. Поэтому говорили между собой, горячась и откровенно возмущаясь самодурством заезжего генерала. Едва я вошел в офицерскую столовую, как мои товарищи дружно вскочили с мест и, окружив меня, загалдели:
— Почему промолчал, что людей этих не учил и не знаешь?
— Пиши рапорт командующему округом!..
— А что, если Сталину дать знать?
— Все образуется, браток…
И каждый приглашал к своему столу, готов был поделиться последним… Вспоминаю сейчас — и сердце благодарно щемит: такое было военное товарищество. Почему же так растеряли мы это чувство теперь? Неужто черствеет душа?
В углу одиноко сидел Валентин Андреевский — мой друг. Человек необыкновенной красоты, благородства и порядочности. (После войны за свой труд рабочим на Харьковском тракторном заводе он был удостоен звания Героя Социалистического Труда и избран депутатом Верховного Совета УССР… Увы, сейчас Валентина уже нет…)
— Пока суд да дело, Жек… — говорил врастяжку Валентин, наливая в граненый стакан водки. Выпили. Без аппетита поковырялись в соленых военторговских грибах. Выпили еще. Потом еще… Такого со мной, да и с ним, хоть он и был старше меня на Десяток лет, не было… Но и хмеля не было «ни в одном глазу»…
Молча дошли мы до калитки дома, где я снимал угол…
— А теперь, Жек, выспись. Утро вечера мудренее, — сказал друг, и мы расстались.
Расстегнув воротник гимнастерки, расслабив ремень, прилег я не раздеваясь на топчан. Мысли бешено носились в голове: «В войну трибунал — это штрафная рота. Значит, смерть… Но смерть-то собачья!.. Как мама переживет такую смерть? Как дать маме знать, что я не виноват?.. А как же мечты актерской юности: Макар Нагульнов. Сирано де Бержерак?..»
В замерзшее окно кто-то постучал.
— Кто?
— Товарищ старший лейтенант, срочно к начальнику училища! — послышался голос запыхавшегося от бега курсанта.
Я бежал, спотыкаясь и скользя по деревянным тротуарам. В кабинете за столом в шинели внакидку сидел полковник Акимов. Рядом — майор Вовченко Иван Никитич, начальник политотдела. Душевный человек.
Я доложил о своем прибытии. Полковник вышел из-за стола, подошел ко мне, обнял.
— Спасибо, сынок… Никакого трибунала не будет… Я все объяснил инспекции… — И ласково хлопнул меня по плечу.
— Скоро День Красной Армии, — напомнил Иван Никитич и улыбнулся. — Чем-нибудь порадуете?
Помню, вышел из штаба, взглянул на тускло освещенную улицу Республики… И… Все… Что было дальше — не помню.
Очнулся утром в постели. Мне потом сказали — я упал со ступенек в кучу снега… Пьяный…
Яблоки
Осенью 1944 года «пятьсот-веселый» забросил меня в Киев. 501, 505, 525 — это были номера дополнительных поездов, идущих (вернее, ползущих) по всей стране с набитыми в товарные вагоны людьми. «Веселая» это была езда. Куда точно идет поезд — было неизвестно; обычно объявляли: «На Урал», «Крымское направление», «В сторону Киева». Где остановится, сколько будет стоять — никогда никто не знал. Бывало, замешкается эшелон на перегоне между станциями, и тысячи людей высыпают в поисках… кустика. Паровозный свисток, лязг буферов — и с гиком, воплями, хохотом кидаются, словно мыши по норам, пассажиры в свои «телячьи» вагоны. Да, забавная была езда. Поэтому «экспресс» и прозвали «веселым»…
В полуразбитом здании киевского вокзала, прямо на куче камней лежал репродуктор, четырехугольным своим раструбом направленный на площадь. Из него неслось:
И камень родной омоем слезой,
Когда мы вернемся домой…
Никогда хрипловатый голос Леонида Утесова не волновал меня так сильно и глубоко, как тогда.
Мне бы поискать «пятьсот-веселый», который шел в сторону Херсонщины, туда, где мама оставалась в оккупации, — за тем, собственно говоря, и приехал я на Украину, — но ноги сами понесли меня на Брест-Литовское шоссе… Здесь была наша актерская школа при киностудии. Что с ней теперь? Есть ли она? Будет ли? И что с ребятами?