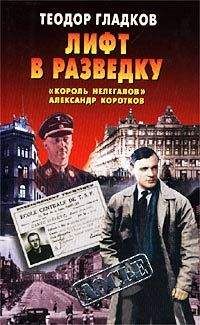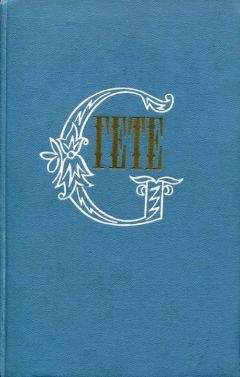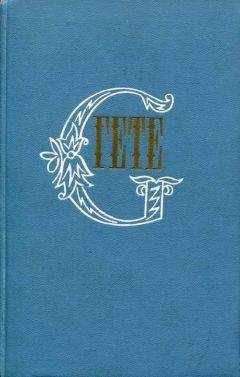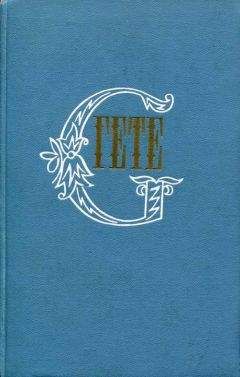Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Из моей жизни: Поэзия и правда
В те времена еще не существовали библиотеки для детей. Ведь и взрослым тогда был присущ детский склад мыслей, и они почитали за благо просто передавать потомству накопленные знания. Кроме «Orbis pictus»[5] Амоса Коменского ни одна книга, пригодная для детского чтения, не попадала к нам в руки, зато мы часто рассматривали Библию с гравюрами Мериана. Готфридова хроника, иллюстрированная тем же художником, повествовала нам о примечательнейших событиях мировой истории; «Acerra philologica»[6] расцвечивала их всевозможными сказаниями, легендами и курьезами. А так как вскоре мне в руки попали Овидиевы «Метаморфозы» и я внимательно проштудировал их, в особенности первые книги, и мои юный мозг наполнился целой массой картин, событий, значительных и оригинальных образов, то я уже никогда не скучал, непрестанно занятый переработкой этой поживы, повторением и воссозданием воспринятого.
Куда более чистый и нравственный, чем нередко грубые и соблазнительные сочинения древних, «Телемах» Фенелона, впервые прочитанный мною в Нейкирховом переводе, несмотря на все несовершенство такового, произвел на меня сладостное и благотворное впечатление. Стоит ли говорить, что за «Телемахом» последовал «Робинзон Крузо», а затем, уж конечно, «Остров Фельзенбург». В «Кругосветном путешествии лорда Ансона» достоверность сочеталась с причудливой фантастикой сказки, и в то время как мы странствовали вместе со славным мореходом, пальцем прочерчивая его путь по глобусу, нам открывалась вся широта мира. Но мне предстояла жатва еще более обильная, когда я наткнулся на множество писаний, устарелая форма которых, конечно, похвал не заслуживала, что, однако, не мешало им, при всей их наивности, знакомить нас с достойными деяниями былых времен.
Издательство, вернее, фабрика этих книг, впоследствии заслуживших известность, даже славу под названием «народных книг», находилась во Франкфурте. Из-за большого спроса они печатались со старого набора очень неразборчиво и чуть ли не на промокательной бумаге.
Итак, мы, дети, имели счастье ежедневно видеть эти бесценные останки средневековья на столике возле двери книгопродавца; более того, за несколько крейцеров они становились нашей собственностью. «Эйленшпигель», «Четыре Гаймонова сына», «Прекрасная Мелузина», «Император Октавиан», «Прекрасная Магелона», «Фортунат» и все их родственники вплоть до «Вечного Жида» были к нашим услугам на случай, если нам вдруг вздумается вместо сластей приобрести книжки. Тут надо упомянуть еще об одном преимуществе: разорвав или как-нибудь повредив такую книжонку, мы могли тотчас же приобрести новую и снова ею зачитываться.
Подобно тому как летний семейный пикник вдруг досаднейшим образом нарушается налетевшей грозой и радостное настроение сменяется хмурым, так детские болезни неожиданно омрачают лучшее время юности. То же самое случилось и со мною. Не успел я купить «Фортуната» с его мешком и волшебной шапкой, как на меня напали жар и общее недомогание, обычные предвестники оспы. Прививка тогда все еще считалась у нас делом сомнительным, и хотя даже известные писатели, разъясняя полезность таковой, настойчиво ее рекомендовали, немецкие врачи все еще боялись операции, как бы опережавшей природу. На материк, правда, приезжали предприимчивые англичане и за солидное вознаграждение делали прививки детям зажиточных и свободных от предрассудков родителей. Тем не менее большинство еще было беззащитно перед старым бедствием; болезнь свирепствовала в семьях, убивала и уродовала детей, но лишь немногие родители отваживались прибегнуть к средству, уже многократно себя зарекомендовавшему. Несчастье вошло и в наш дом, с особой силой обрушившись на меня. С телом, усеянным язвами, ничего не видя, с накрытым белой тряпкой лицом, я долгие дни лежал в жестоких страданиях. Чего-чего только не делалось, чтобы их смягчить, мне сулили золотые горы, если я буду лежать спокойно, не буду расчесывать и раздирать волдыри. Я поборол себя и лежал тихо; на беду, согласно господствовавшему тогда предрассудку, во время болезни нас кутали, как только возможно, отчего страдания еще обострялись. Наконец печальные дни отошли в прошлое, у меня точно маска спала с лица; видимых следов болезнь не оставила, но облик мой заметно изменился. Сам я был счастлив, что снова вижу свет божий и что пятна на моем лице мало-помалу исчезают, но окружающие немилосердно напоминали мне о моем былом состоянии; в особенности одна резвая тетушка, ранее меня обожавшая, даже несколько лет спустя, завидев меня, чуть ли не всякий раз восклицала: «Фу, черт, до чего же ты, братец, стал противный!» Затем она пускалась в подробные рассказы, как прежде любовалась мной и как все на нее заглядывались, когда она носила меня на руках. Так я еще в детстве узнал, что люди нередко сторицей взыскивают с нас за удовольствие, которое мы им доставляли.
Ни корь, ни ветряная оспа и как там еще зовутся мучители детских лет не обошли меня стороной, и всякий раз я слышал уверения: хорошо, что эта беда миновала и больше не повторится; но, увы, где-то вдали уже собиралась другая, чтобы вскоре меня настигнуть. Все это умножало мою склонность к размышлениям, и я, силясь избавиться от мучительного чувства нетерпения, уже давно упражнял себя в выдержке: прославленная добродетель стоиков казалась мне достойной всяческого подражания, тем паче что нечто подобное проповедовалось и христианством под видом долготерпения.
Заговорив об этой беде, поразившей нашу семью, я должен вспомнить и о своем брате. Будучи на три года моложе меня, он заразился той же болезнью и очень страдал. Хрупкого сложения, тихий и упрямый, этот мальчик не был мне близок, да он и не пережил своих детских лет. Из позднее родившихся братьев и сестер, тоже недолго проживших на свете, я помню только очень красивую и милую девочку, но и ее вскоре не стало, и когда, по прошествии нескольких лет, мы с сестрой поняли, что остались одни, это еще больше и глубже привязало нас друг к другу.
Болезни и другие неприятные нарушения нормального хода дней по своим последствиям были для нас вдвойне обременительны. Дело в том, что мой отец, видимо составивший календарное расписание занятий с нами, стремился немедленно нагнать пропущенное, и взваливал на плечи выздоравливающих двойную тяготу уроков. Справлялся я с ними без труда, но и безо всякой охоты, ибо внутренне мое развитие уже приняло определенное направление, а усиленные занятия его только задерживали, даже в какой-то мере подавляли.
От этих дидактических и педагогических притеснений мы обычно спасались у деда и бабки. Они жили на Фридбергской улице, в доме, который некогда был замком: во всяком случае, при приближении к нему видны были только большие зубчатые ворота, с обеих сторон примыкавшие к соседним домам. Начинавшийся за воротами длинный и узкий проход приводил нас в довольно широкий двор, окруженный строениями разной высоты, ныне соединенными в один жилой дом. Первым делом мы спешили в хорошо ухоженный сад, вширь и вглубь простиравшийся за этими строениями. Большинство дорожек было обсажено шпалерами вьющегося винограда, часть земли была отведена под овощи, другая под цветы, с весны и до осени в пестрой своей смене украшавшие грядки и клумбы. Вдоль длинной южной стены росли прекрасные персиковые деревья, на которых летом, как бы дразня нас, зрели запретные плоды. Зная, что нам здесь не полакомиться, мы избегали этой стороны, предпочитая ей противоположную, где необозримые ряды смородины и крыжовника обильно плодоносили с лета до поздней осени. Не меньше влекла нас к себе и старая, широко раскинувшаяся шелковица, и не только своими плодами, но и потому, что, как нам говорили взрослые, ее листьями питаются шелковичные черви. В этом мирном уголке дед наш с деловым и довольным видом каждый вечер собственноручно ухаживал за деревьями и цветами, предоставляя садовнику выполнять более тяжелую работу. Дед не жалел усилий, надобных для поддержания и разведения прекрасной культуры гвоздик, и самолично подвязывал ветви персиковых деревьев наподобие веера, что должно было способствовать обильному урожаю и поощрять рост плодов. Сортировку луковиц тюльпанов, гиацинтов и прочих луковичных растений, равно как и заботу об их хранении, дед тоже никому не доверял, и я доныне с удовольствием вспоминаю, как усердно он занимался окулировкой различных сортов розы. При этом он надевал для защиты от шипов старомодные кожаные перчатки, которых каждый год по три пары подносилось ему на Суде дудошников, так что он никогда не терпел в них недостатка. К тому же он постоянно ходил в похожем на ризы шлафроке, а на голову надевал черную бархатную шапочку, всю в складках, отчего и был похож на нечто среднее между Алкиноем и Лаэртом.