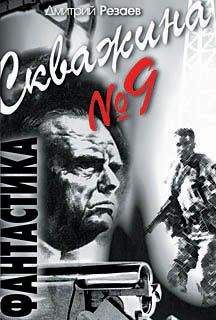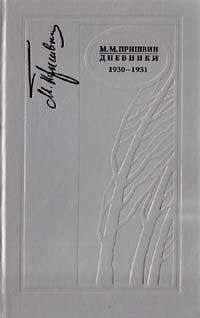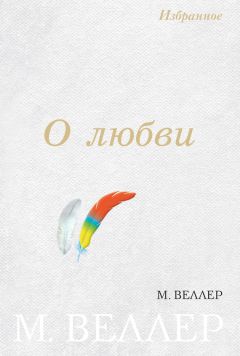Михаил Пришвин - Дневники 1928-1929
Вдруг вернулся Сережа и бросился к ней в объятия. И спал с ней две ночи. Она трепетала: разве так можно! Ожидала ужасного вопроса. Он ничего не спросил. Она сама спросила его, представляя в третьем лице: мог бы он такое простить.? Он ответил: никогда!
Вопрос присяжным: виновна? И ответ их: да, виновна! И я сам в то время не мог ее взять только потому, что, любя меня, она смотрела на другого (это свойство алмазной весны, холодная внутри, сверху блестит). Но, я думаю, она не виновна.
Явился брат (он теперь создал себе «положение» и ей не дает ни гроша). «Ты ведешь себя, как проститутка, да, кажется, это уже так и есть…» И вот Василий — типичный человек-мещанин, каменный, против которого проститутка на своем фронте выставляет «акул».
Бывает, побитая машинка печатает букву вдвойне: две буквы одна в одну и видишь две, а читаешь за одну. Такие бывают у человека глаза. У нее раньше это было — один подходит, она глядит на другого, теперь это стало у нее внутри. Он отходит от нее. Она ждет. Потом со злости, зря отдается другому, чтобы выйти за него замуж. Было это во время фокстрота. Он ей сделал это предложение… «А у меня были месячные». Он не посмотрел и на это. Проснулись среди бутылок. Он прямо бросился к столу писать родителям письмо, что хочет жениться («тоже был в то время ребенок!» — сказала она).
Вышла замуж. Началась «растительная жизнь». Отец мужа (студент консерватории) врач-немец. Все стали думать, как бы сделать ребенка. Помог врач-гинеколог. Она не испытывала чувства удовольствия от акта. Иногда будто бы помогает, если женщину привести в состояние возбуждения. Целую неделю каким-то способом раздражали ее, и она забеременела (что-то у меня голова кружится… — Готово!). Когда родился ребенок (его вынимали под хлороформом клещами три дня), она стала к мужу совершенно равнодушна (вероятно, сказался на психологии искусственный прием). Отношения стали холоднее и холоднее, он уехал и не вернулся. Выслал разводной лист ей с его фамилией (чтобы ребенок носил его имя). Родители требовали ребенка. Она его не дала. Ей не присылают денег, она по гордости не требует алиментов. Служит за 55 р. В глубокой бедности (сама шляпу сделала, шуба чужая, халата нет, штопает чулки без конца).
И сейчас ей все делают предложения, и мать стремится выдать ее замуж. Конечно, взять может только студент. В паспорте записала себе не 29 лет, а 25 (выглядит еще моложе).
<На полях> Они выгоняли из нее наследника, будто рыбу давили и выжимали икру. Но когда выжали, то рыба обернулась в мать человека, взяла ребенка и заявила: «он мой!» и ушла.
Весна плачет серыми слезами, но у меня сухие глаза, я плачу внутрь себя, и там собирается слез человеческих не меньше, чем у весны ее внешних слез, которые все понимают по-разному.
Я простился. Ее два голубые глаза исчезли, как две бледные звезды на восходе солнца. Я шел в равнодушной толпе и вместе с нею вошел по нужде своей в тесное место. Там было много желающих. Я стал в очередь, стараясь дышать в рот от зловония… Приходили новые и прижимали нас тесно в клоаку. Тогда на мгновение вся жизнь встала мне как клоака, и я вышел на улицу и был совершенно один. Хотел уснуть в своем номере и не мог уснуть. У меня оставалась надежда, — она придет, и я скажу ей все, я сумею показать ей, что любовь на свете одна и любить можно вне очереди. За одну понимающую меня улыбку в эту минуту я готов был бы взять на себя много. Шли часы, их было много, и много вылилось слез внутрь меня. Она не пришла!
Когда я приехал домой, то было так странно: мне все было мило, а жена милей, чем раньше. Я глядел на жену и думал о Козочке, и одно ничуть не мешало другому.
Она была вся в улыбках, сотни разных улыбок во все этажи, и все звали ее «Веснушка», хотя ни одной веснушки на лице ее не было. Ее называли «Веснушкой» потому, что среди них не было ни одного поэта, и никто из них не мог догадаться, что это была у них сама Снегурочка.
Отца моей Козочки убило в Мраморном дворце электрической искрой. Вдове матери дали маленькую пенсию, и она с детьми перешла жить на Малую Охту. Моя Козочка родилась в Мраморном дворце, а проживала на Охте. (Великий князь держал ее на руках и показывал картины.)
Я не защищаю: разве можно винить женщину за доверчивость. Она — вся доверчивость.
<На полях> Мать говорила: мы архангельские, хоть и мужики, а рабами не были!
По правде говоря, я загадывал втайне, что скажу ей: «Я люблю тебя, сделай мне теперь праздник, отдайся мне, женщина, и знай: я человек самый верный и благодарности моей не будет конца». Она сидела у меня на постели, почти голая, я подошел к ней, обнял ее, хотел сказать, но не мог: от нее не было тока. Я сказал: «У тебя, Козочка, тело розовое, а бывает голубое». Она ответила: «У меня есть и голубое» и открыла мне ноги выше чулок почти к животу, там, правда, тело было голубоватое. После того я отошел в сторону и любовался ею, как будто она была из мрамора. «Чувствуешь ли ты, — сказал я, — потребность в удовлетворении себя как женщина?» Она ответила: «Никогда, ни малейшего желания». Мне показались чудовищными все мои тайные расчеты на «пир», но захотелось что-нибудь для нее сделать.
Но существуют же на свете «диктаторы» любви, им все равно, любит она или не любит.
Я остановился в большой гостинице, и меня запрятали в глухой номер на третьем этаже, окнами во двор, куда не проникало никаких звуков. Проспав в одиночестве полчаса, я почувствовал начало тоски, от которой, если вовремя не встретить близкого человека, можно заболеть таким безволием, что уж и не встанешь с места… Поскорее вышел я на улицу. На Невском была чужая мне толпа людей. Я шел без плана и остановился у Невы… Прошлый год я был на этом самом месте и вспомнил: я хотел идти на Васильевский остров в дом, где жил десять лет тому назад, узнать, не осталось ли каких-нибудь слухов от моей Козочки. Остров был в тумане, Нева подо льдом. Людей вокруг ни одного человека. Кто-то, впрочем, показался и спросил меня, где Вас. остров. Я указал рукой на мост, и человек скоро исчез в тумане. Я же решился идти, махнув рукой на Козочку: за 10 лет от нее остались теперь только ножки да рожки. Теперь я перешел мост и потом добрался тихонько до своей линии. В воротах, где когда-то я стоял на дежурстве с винтовкой, теперь дворник стоял. А когда я назвал фамилию, указал мне рукой на старушку с мальчиком, и я узнал: это была мать Козочки. Старушка узнала меня. С волнением спросил я про Козочку. Она указала на мальчика и сказала: «Пять лет!» — «У нее теперь муж?» — спросил я. «Нет, бросил, она служит, заходите вечером, обрадуется, как обрадуется!» Я обещал и начал бродить. Куда девалась моя тоска, и громадный город, мне казалось, мертвый, вдруг ожил для меня во всем своем великолепии простора. Прошлое стало оживать, и я сам стал воскрешать все подробности с такой силой, что из прошлого через настоящее перекинулся мостик в будущее. Правда, с этой Козочкой связано у меня так много! Она была много моложе меня, и я любил ее, как ребенка.