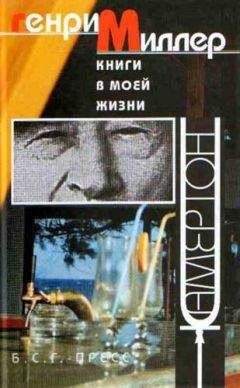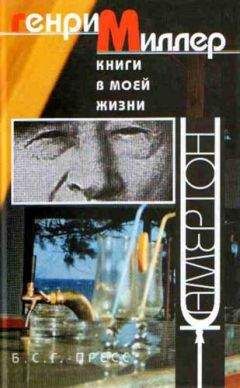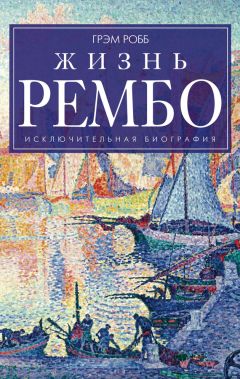Генри Миллер - Время убийц
Как потрясает всякого поэта тот факт, что Рембо отверг свое призвание! Это все равно что сказать: он отверг Любовь. Суть не в мотиве, главным стимулом, безусловно, явилась утрата веры. Ужас поэта, его ощущение обмана и предательства сравнимы с чувствами ученого, узнавшего, как на самом деле используются его открытия. Невольно хочется уподобить акт отречения, совершенный Рембо, взрыву атомной бомбы. Последствия во втором случае охватывают более обширную территорию, но глубина воздействия куда меньше. Сердце регистрирует толчок раньше остальных органов. Пройдет какое-то время, прежде чем гибельная отрава распространится по телу цивилизации. Но когда Рембо ушел через черный ход, неотвратимый рок уже заявил о себе.
Как я был прав, не торопясь совершать свое открытие Рембо! Сам приход его в мир и его земные деяния несут для меня совсем иной смысл, нежели жизнь и творчество всех других поэтов; но святые ведь тоже делали совершенно неожиданные заключения о пришествии и деяниях Христа. Либо мы признаем, что это — событие величайшего значения для человеческой истории, либо приходим к выводу, что само искусство толкования заведомо ложно. В том, что когда-нибудь мы станем жить, как Христос, у меня нет ни малейших сомнений. В том, что мы сначала отринем собственную индивидуальность, я тоже ничуть не сомневаюсь. Мы достигли крайней степени эгоизма, некоего атомного распада. Здесь-то мы и разлетимся на мельчайшие частицы. Сейчас мы готовимся к смерти маленького «я», чтобы на свет появилось «я» истинное. Непроизвольно и неосознанно мы создали цельный мир, но цельный в своем ничтожестве. Нам необходимо пройти через коллективную смерть, чтобы возникли настоящие индивидуальности. Если правда, что, как сказал Лотреамон, «поэзию должны творить все», то тогда нам необходимо найти новый язык, на котором одно сердце говорило бы с другим без толкователей. Мы должны обращаться друг к другу так же ясно и непосредственно, как божий человек обращается к Богу. А сегодня поэт вынужден отрекаться от призвания, ибо в полном отчаянии он уже признал свою неспособность к общению. В былые времена поэзия была высочайшим призванием; сегодня она — занятие самое бесполезное и пустое. И не потому, что мир глух к мольбам поэта, но потому, что поэт сам не верует более в свое божественное предназначение. Его голос фальшивит уже целый век, а то и дольше; да и мы в конце концов утратили способность воспринимать его напевы. Нам еще внятен зловещий вой бомбы, но исступленный бред поэта кажется нам тарабарщиной. А это и впрямь тарабарщина, если из двух миллиардов людей, живущих на земле, только несколько тысяч безуспешно пытаются понять, что говорит поэт. Культу искусства приходит конец, когда оно существует лишь для какой-то горстки мужчин и женщин. Тогда это больше не искусство, а условный знак тайного общества, где индивидуальность культивируется ради самой себя. Искусство есть нечто такое, что возбуждает людские страсти, раздвигает горизонты, что просветляет и дает смелость и веру. Разве за последние годы хоть один художник слова пробудил в людях страсти той же силы, что разжег Гитлер? Разве хоть одно стихотворение поразило мир так, как недавно — атомная бомба? С самого пришествия Христа не открывались перед нами такие необъятные возможности, и день ото дня их все больше. Каким оружием, сопоставимым с этим, обладает поэт? Или какими мечтами? Где теперь его хваленое воображение? Вот она, перед нашими глазами, — действительность, неприкрашенная, голая, но отчего не слышна была песнь, возвещавшая ее? Где на поэтическом небосклоне звезда хотя бы пятой величины? Не вижу ни одной. Я не называю поэтами тех, кто сочиняет стихи, рифмованные или нерифмованные. Я называю поэтом того, кто способен полностью изменить мир. Если есть среди нас такой поэт, пусть объявится. Пусть возвысит свой голос. Но это должен быть голос, способный заглушить рев бомбы. И язык потребуется такой, который растопит сердца людей, от которого кровь закипит в жилах.
Если предназначение поэзии — пробуждать людей, то мы должны были пробудиться давным-давно. Некоторые и пробудились, нельзя отрицать. Но теперь необходимо пробудиться всем — и немедленно, иначе мы погибли. Впрочем, человек не погибнет никогда, поверьте. Погибнут культура, цивилизация, образ жизни. И лишь когда они восстанут из мертвых, а они восстанут, поэзия сделается самой сутью жизни. Можно позволить себе роскошь потерять поэта, если мы хотим сберечь поэзию. Для того чтобы творить поэзию и нести ее людям, не требуется ни бумаги, ни чернил. Первобытные народы, в сущности, поэтизируют повседневность, самую жизнь свою. Они по-прежнему творят поэзию, хотя она и не трогает нас. Не утрать мы чутья поэтического, мы не остались бы глухи и слепы к их образу жизни: мы вобрали бы их поэзию в нашу, мы влили бы в нашу жизнь красоту, пропитавшую их бытие. Поэзия цивилизованного человека всегда была закрытой, понятной лишь посвященным. Она сама накликала собственную смерть.
«Мы должны быть абсолютно современными», — утверждал Рембо, желая сказать, что устарели химеры, равно как и суеверия, фетиши, вероучения, и догмы, и вся эта лелеемая нами чушь и бессмыслица, из которой состоит наша хваленая цивилизация. Мы должны нести свет, а не искусственное освещение. «Деньги обесцениваются повсюду», — писал он в одном письме еще в восьмидесятые годы. В сегодняшней Европе они, по существу, утратили всякую ценность. Людям нужны еда, кров, одежда — основные вещи, — а не деньги. Прогнившее сооружение рухнуло прямо на наших глазах, но нам не хочется верить собственным глазам. Мы все еще надеемся вести свои дела так, словно ничего не случилось. Мы не осознаем ни масштабов понесенного ущерба, ни возможностей возрождения. Мы пользуемся языком древнего Каменного века. Если люди не в состоянии охватить умом всю чудовищность настоящего, как же смогут они когда-нибудь достойно мыслить о будущем? Тысячелетиями мы думали на языке прошлого. Теперь же одним ударом все это таинственное прошлое стерто. Перед нами одно только будущее. Оно глядит нам в глаза. Зияет, как бездна. По всеобщему признанию, страшно даже подумать о том, что нас в будущем ждет. Куда страшнее, чем все, что было в прошлом. Чудища были в прошлом соразмерны человеку; проявив известный героизм, с ними можно было справиться. Теперь чудища невидимы; в одной пылинке их миллионы. Я все еще, как вы заметили, пользуюсь языком старого Каменного века. Я говорю так, словно сам атом является чудищем, словно власть у него, а не у нас. В этой хитрости мы довольно наупражнялись с тех самых пор, как человек начал думать. И это тоже иллюзия — притворяться, будто в глубоком прошлом был некий миг, в который человек начал думать. Думать он еще и не начал. В умственном отношении он по-прежнему на четвереньках, ползает на ощупь в тумане, глаза у него зажмурены, сердце громко колотится от страха. А более всего он боится — помилуй его, Боже, — собственного образа.