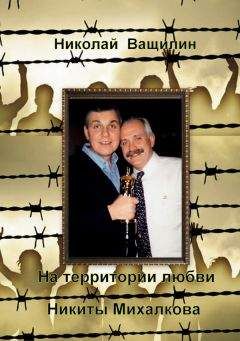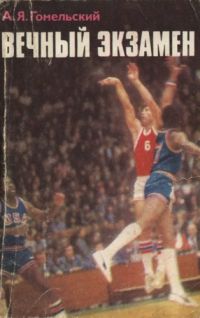Анри Труайя - Марина Цветаева
Едва отойдя от смертного ложа, как Марине казалось, общего для нее и покойной матери, она почувствовала, что околдована образом, который уже никогда не покинет ее. Образом совершенно особенной женщины, умершей в тридцать семь лет, так и не узнав настоящего счастья ни в семейной жизни, ни в артистической карьере, но передавшей дочери по наследству, несмотря ни на что, потребность жертвовать всем ради поэзии и любви. «После смерти матери я перестала играть, – напишет Марина. – …Молчаливо и упорно сводила свою музыку на нет. Так море, уходя, оставляет ямы, сначала глубокие, потом мелеющие, потом чуть влажные. Эти музыкальные ямы – следы материнских морей – во мне навсегда остались».[22]
II. Преждевременная эмансипация
Марина очень тяжело перенесла возвращение в родной «трехпрудный» дом после смерти матери. Все, все здесь напоминало об ушедшей, все принадлежало ей: это ее тень скрывалась за занавесками, это ее голос населял тишину. Любой стул, любая мебель стала воспоминанием о покойной и почти упреком живым. Один только вид рояля с закрытой крышкой приводил девочку-подростка в состояние неописуемого ужаса. Она отказывалась приближаться к инструменту. И вообще не хотела жить дома. Если бы она была религиозной, то ушла бы в монастырь. Но, поскольку не верила в Бога, предпочла затворничество в пансионе фон Дервиз, славившемся суровостью на всю Москву. Она рассматривала это свое изгнание одновременно как убежище, лазейку, чтобы укрыться, и как способ умерщвления плоти. В том огромном горе, которое охватило и не отпускало Марину, она предпочитала пытку дисциплиной пытке памятью.
Анастасия, обладавшая более спокойным и ровным характером, чем сестра, оставалась дома и довольствовалась тем, что продолжала заниматься сначала с одной учительницей – из гимназии, куда хотел определить младшую дочку отец, потом с другой – любимой, выписанной профессором Цветаевым из Ялты. Но и Асе, несмотря ни на что, дом казался пустым, незаселенным, она остро ощущала одиночество. Из-за легкого апоплексического удара Ивану Владимировичу пришлось несколько недель провести в клинике. Единокровный брат Андрей, которого девочка очень любила, стал чудаковатым юношей, теперь он уделял сестренке меньше внимания и едва ли не целыми днями, запершись в своей комнате, играл на мандолине. Избравшая профессию педагога старшая сестра Валерия посвятила себя «просвещению народа», часто встречалась с прогрессивно настроенной молодежью и посмеивалась над Асей, обвиняя ее в том, что девочка не видит эволюции мира в сторону триумфа рабочего класса.
Зато Валерия была очень внимательна к Марине. Когда та возвращалась из интерната в дни каникул, придя всего на несколько дней домой, начинающие конспираторы охотно принимали ее в свою компанию. И получалось, будто рядом с официальной семьей, живущей в Трехпрудном переулке, существует и еще одна, тайная. Пылкость и убежденность новых друзей оказались заразительны. После этих бурных политических дебатов Марина приносила в гимназию фон Дервиз революционный дух, и это раздражало начальство, ему такая ученица была нежелательна, терпеть ее не хотелось. Девочку осыпали упреками за то, что приносит в учебное заведение опасные книги, за то, что произносит «зажигательные» речи перед одноклассницами в перерывах между занятиями, за то, что дерзко отвечает на любое замечание, критикуя все подряд, противопоставляя себя окружающему и окружающим. И действительно, дух противоречия был у нее необычайно силен. Марина, похоже, старалась создать ощущение, будто стремится стать сиротой в целой вселенной. Однажды, когда директриса в очередной раз отругала девочку за непослушание, Марина выкрикнула ей в лицо: «Горбатого могила исправит! Не пытайтесь меня уговорить. Не боюсь ваших предостережений, угроз. Вы хотите меня исключить – исключайте! Пойду в другую гимназию – ничего не потеряю. Уж привыкла кочевать. Это даже интересно – новые лица…»[23]
Когда весной 1907 года профессор Цветаев вернулся домой из клиники, его попросили забрать из интерната дикарку-дочь, которая не упускает ни единого случая взорвать установленный порядок и произнести проповедь, подталкивающую других учениц к мятежу.
Однако идеологические диверсии в гимназии не были – далеко не были! – единственным и главным занятием Марины. Даже мечтая мощным ударом сотрясти устои общества, она продолжала жадно поглощать книги – все подряд, любые, какие попадали под руку, – и сочинять стихи, в которых чувствуется явственный отпечаток юношеской сентиментальности. Некоторые из стихотворений ей случалось прочесть сестре, некоторые – друзьям, и ей приятно было слушать комплименты. Но настоящее удовлетворение она получала не от этого, истинное вознаграждение заключалось не в этом, – оно было интимным, тайным от всех: ощущение того, как ход мыслей в ней согласуется с музыкой слов. Она не ожидала от своих стихов ничего другого, кроме наслаждения, которое они дарили ей, когда, сидя одна над листом бумаги, с пером в руке, чуть склонив голову набок, она чувствовала, как вдруг приходят к ней рифмы и как становятся послушны ей.
Однако никто не может жить только в мечтах, миражах… После того как Марину исключили из гимназии фон Дервиз, Иван Владимирович записал ее в другую – гимназию Алферовой. На этот раз без всякого пансиона, и девочка проводила много времени в Трехпрудном. Иногда она прогуливала уроки и, пока отец был дома, уединялась на чердаке, куда Ася приносила ей пальто или шаль, а она запойно читала, кутаясь в них. А свободные вечерние часы отдавались тому же занятию или писанию стихов в собственной Марининой маленькой комнатке – прежде принадлежавшей Андрею. Ей казалось, будто именно в этих четырех стенах ее дух лучше всего концентрируется и воспламеняется. Чем больше великих писателей она узнавала, тем сильнее стремилась походить на них. Ей чудилось, что нет большего счастья для человеческого существа, чем сравниться гением с Пушкиным, Гёте, Шиллером… Может быть, она думала, что, не будучи способной соблазнить кого бы то ни было своими физическими данными, она должна рассчитывать только на талант, чтобы вызвать восхищение толпы?
Ей исполнилось пятнадцать, и она была крайне недовольна своей внешностью: казалась себе слишком громоздкой, толстой, ненавидела свои круглые щеки, свои прямые волосы, свои неловкие жесты, наконец – близорукие глаза, которые словно плавали в пространстве в поисках точки, на которой остановить взгляд. Всякий раз, проходя мимо зеркала и случайно заглянув в него, девочка испытывала к себе отвращение. И это отвращение к себе самой, этот отказ от себя самой принимал такие размеры, что Марина ощущала себя великомученицей, если вынуждена была подвергнуться обстрелу взглядов и возможному обсуждению другими людьми. «Мученье стесняться было почти не под силу, – пишет Анастасия Цветаева в своих „Воспоминаниях“, – войти в чью-то гостиную, где люди, в сеть перекрестных взглядов, под беспощадно светлым блеском ламп, меж ненавистных шелковых кресел, ширм, столов под бархатной скатертью – было почти сверх сил».