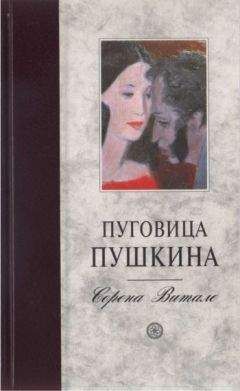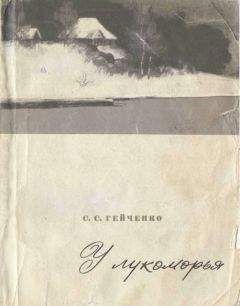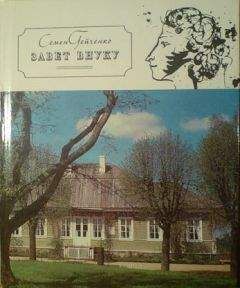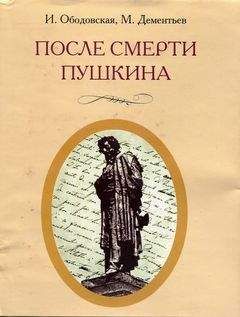Семен Гейченко - Пушкиногорье
Боялись за пироги, испеченные в его честь. Пироги были с визигой, мясом, яблоками, вареньем. Они были давно готовы и торжественно лежали в столовой на большом столе, накрытые белой льняной скатертью, по краям которой было вышито золотыми нитками: «Ешь чужие пироги, а свои вперед береги…»
Решено было еще раз послать гонца с запиской в Михайловское. И Петрушка полетел.
Вдруг в окно гостиной кто-то сильно застучал. Потом рванул оконную раму и упал с великим грохотом на пол. Потом вскочил и… все увидели монаха, со скуфьей на голове, в одной руке которого были четки из нанизанных на веревку желудей, в другой стек.
— Пушкин, Пушкин. Ура! — закричали хором девы.
Пушкин смиренно подошел к хозяйке. Та не успела прогневаться на этот балаган, как он «затянул лазаря»:
— Царица преблагая, надежда и прибежище мое, радость и покровительница! Разрешите, утешительница, облобызать ручки ваши! Погасите, радость моя, пламень страстей моих, ибо нищ, убег, окаянен еси! Славлю пречестное имя ваше и имена всех дев ваших во веки веков. Аминь. — И, стай на колени, сделал Прасковье Александровне земной поклон и целование ручки.
— Ну-ну, экой вы, сударь, шалун. Пора остепениться… Женить вас надо, вот что! Тогда и дурачиться перестанете!
— А вы, сударыня, совершенно правы! Мне надобно жениться. Надо. Надо. Надо! Надоела эта жизнь холостяцкая, пустая, беззаконная. Хмельная. Суетливая… Будет семья, женушка, детки. Согласие. Апофеоз. Понимание. Степенство. Труд вожделенный. Уважение. А только кто же за меня, такого несчастного, пойдет? У жениха-то ведь ни кола ни двора, а в кармане комар на аркане.
Вокруг него венком стояли все тригорские девы и смиренно, как ангелы на картине Рафаэля, слушали свое божество — Пушкина. Стояли девы нежные, хрупкие, сверкающие молодыми взглядами блондинки, шатенки, брюнетки… Молодые, совсем юные, расцветающие и уже в полной окрасе.
— Ну кто же выйдет за меня, такого разнесчастного?..— продолжал Пушкин. — Ах, почему вы не человеки, а богини, ангелы, херувимы, — крикнул он, обращаясь ко всем. — Вот бы… — И схватил под руку Алину и Зизи. — Пардон, мадемуазель, алле-оп! — крикнул он и ловко выскочил из монашеского балахона, толкнув его под банкетку, стоявшую под картиной «Искушение святого Антония».
Кто-то крикнул:
— Господа, давайте начинать, пожалуйте в трапезную. Там нас всех заждался этот, как его… мосье Яблочков-Пирожищев!
Пировали долго и шумно. Снимали пробу с нового сидра, ягодных наливок, настоек. Пушкин кричал, что его алоэ Ганнибалово все же вкуснее, чем их Вульфовы бальзамы и сидры. Потом заявил, что к дню рождения хозяйки сам на здешней кухне займется благоделанием и испечет яблочный пирог по своему рецепту, пирог, какого никогда не едали ни в Опочке, ни в Пскове, ни в самом Зимнем, в Санкт-Петербурге…
После обеда все рассеялись кто куда. Аннет села за пяльцы, Пушкин рядом с нею на диван.
— Аннет, сжальтесь, — сказал Александр, кладя голову поудобнее на диванную подушку. — Да оставьте вы пяльцы. Ну скажите мне хоть что-нибудь ласковое, милостивое… ну?
Она отложила иголку и посмотрела ему в глаза.
Пушкин посмотрел на нее.
— Друг мой, давайте отсюда убежим, давайте махнем с вами за границу! А!
— Куда? Ах, бог ты мой, вам только бы смешки да хаханьки, а я… — Слезы брызнули из потемневших глаз девушки. — Изволите все шутить… Мучить меня… А я не знаю, что и делать…
— Не плачьте, плакса-вакса! Вы же у меня одна-единственная, неповторимая! Ангел, ангел. А в заграницу — я, верно, шучу. Какую там заграницу. А впрочем, я об этом давно думаю и думать буду! Ах, бог ты мой, а ведь где-то есть другая страна и все другое?
— Там зреют лимоны, летают райские птички… и ерунда всякая. Да?
Пушкин склонил голову.
— Анна, милая, мочи нет. Друг мой, ах, как хочется..
— Чего хочется?
— Музыки!
— Музыки? Какой?
Аннет подошла к роялю и заиграла бурную кадриль.
— Нет, нет, нет! — вскричал Пушкин.
Он любил музыку какой-то особой, светлой любовью. Музыка смиряла его тревогу и утверждала счастье жизни в душе.
Иной раз, вот так же, как сейчас, к нему приходило великое беспокойство, безверие, тоска.
Музыка уводила его от этих печальных раздумий и вселяла в душу торжество, радость.
Анна встала, посмотрела на Пушкина я стала рыться в кипе нот. Вновь села за рояль и пробежала пальцами по клавиатуре.
— Давайте я лучше спою!
Она пела какой-то старинный хорал. В душе его что-то перевернулось, по спине забегали мурашки. Он почувствовал, что сейчас зарыдает. Вскочил.
— Куда вы, Пушкин? — крикнула Аннет.
Она бросилась к нему, схватила за руку и тоже заплакала. Оба, рыдая, побежали в другую комнату. За ними сбежались все. Спрашивали:
— Что с вами?
— Что с вами?
— Ах, подруженьки, милые. Любовь моя великая! Как я всех вас люблю! — сказал, улыбаясь сквозь слезы, Пушкин.
— А меня? — спросила Зизи.
— Вас особенно, — ответил он.
— А меня, милый? — спросила ее сестрица.
— И вас, дорогая!
— И вас, мое сокровище, и вас, госпожа моя, и вас, серафим души моей, и вас, голубка моя, и вас, заступница и печальница моя…
«И меня, и меня, и меня», — отозвались эхом уютные комнаты дружеского дома. «И меня», — прогудели струны рояля. «И меня», — защебетала проснувшаяся канарейка. «И меня», — ответил ветер за окном и ручеек у пруда…
Правду сказать, он любил в этом доме всех, от мала до велика, любил своей пушкинской любовью.
Потом, как всегда на домашних праздниках, его просили, уговаривали, умоляли почитать Онегина. Ему самому хотелось читать. Но он отнекивался, ибо это было в его обычае.
Наконец все устроилось, все заняли свои любимые места. Он встал около рояля и стал читать. Голос его был звонкий, бархатистый, с маленькой сипотцой.
— Дорогие, не только в четвертой, но и в этой новой главе «Онегина» я изобразил свою жизнь в деревне и здесь, у вас. И кое-кому сейчас услышится то, что у меня на душе; вы узнаете, кто из вас мой идеал.
Сегодня у меня особые мечты…
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души…
Познал я глас иных желаний.
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, младость?
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?
Он читал долго и вдохновенно. Его целовали, им любовались. И было все торжественно, как в старинном храме в светлое воскресенье.