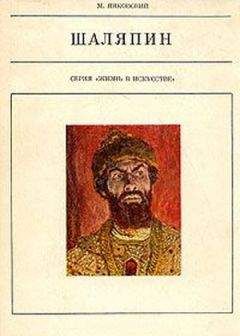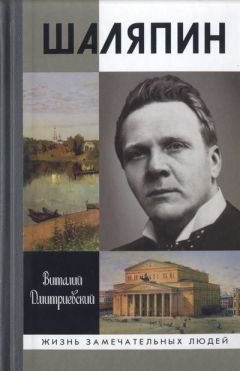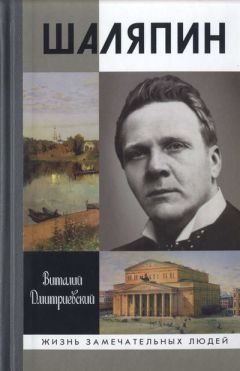«Милая моя, родная Россия!»: Федор Шаляпин и русская провинция - Коровин Константин Алексеевич
Шаляпин взял бокал и стал пристально смотреть на сидевших за дальним столом. Там зааплодировали, и весь зал подхватил. Аплодируя, кричали:
— Спойте, Шаляпин, спойте.
— Вот видишь, я прав — жить нельзя. — Шаляпин вновь побледнел. — Уйдем, а то будет скандал…
Дорогой Шаляпин говорил:
— Я же есть хочу. Поедем к Лейнеру, там сядем в отдельный кабинет.
У Лейнера кабинета не оказалось. Пришлось пойти в «Малый Ярославец». В «Малом Ярославце» — о, радость — мы встретили Глазунова с виолончелистом Вержбиловичем. Они сидели одни за столиком в пустом ресторане и пили коньяк. Глазунов заказал яблоко. Вержбилович сказал:
— Мы блины с ним ели. Сидим — поминаем Петра Ильича Чайковского.
Он обратился ко мне:
— Помните, как мы здесь часто обедали?
И к Шаляпину:
— Жаль, не пришлось ему послушать вас. А то б он написал для вас. Вот Николай Андреевич [Римский-Корсаков] верхним чутьем взял. Учуял, что Шаляпин будет.
— Верно, — подтвердил Глазунов. — Действительно, почуял, что будет артист.
Шаляпин при встрече с большими артистами всегда менял тон. Бывал чрезвычайно любезен и ласков.
— Коньяк хорош, — сказал Глазунов. — И приятно после блинов. Советую с яблоком.
Шаляпин рассказал за ужином про трудности своей жизни и о том, что ему недостаточно платят. Глазунов и Вержбилович слушали молча и рассеянно.
Слышу, в коридоре звонок. Отворяю — Федор Иванович Шаляпин. Раздеваясь, говорит:
— Весна, оттепель!
Смотрит на меня вопросительно:
— Ты в деревню не едешь? Я свободен эту неделю. Ты там на тягу ходишь в лес. Я бы тоже хотел пойти. Я как-то не знаю, что такое тяга.
В коридоре опять звонок. Отворяю — Павел Александрович Тучков, в пенсне, в котелке, лицо веселое. Раздеваясь, говорит:
— Весна. Я еду к тебе. Тянет, понимаешь ли, тянет. Понять надо, да, да…
— Куда тебя тянет? — спрашивает Федор Иванович, закуривая папиросу.
— На природу тянет. Вальдшнепы тянут, жаворонки прилетели. Вы ничего не понимаете. Я сейчас ехал на извозчике к тебе. Он меня везет по теневой стороне. Я говорю — возьми налево, где солнце. А он говорит: «Никак невозможно». — «Держи лево», — говорю ему. А он: «Чего? Мне из-за вас городовой морду побьет». Довольно всего этого. Я еду к тебе сегодня же с ночным. Там заеду к Герасиму и сажусь на кряковую утку. На реке, у леса.
— Если ты едешь один, — говорю я, — то возьми паспорт. А то может нагрянуть урядник, лицо у тебя такое серьезное, подумает: что это за человек такой сердитый живет, взять его под сомнение. А ты — камергер…
— Постой, — Павел Александрович озабоченно полез в боковой карман, поискал и достал паспорт.
— Ну-ка, дай, — Федор Иванович взял у него из рук паспорт. — Что же это такое? При-чи-сленный… Какая гадость. — Федор Иванович захохотал.
— Постой, дай сюда, — рассердился Павел Александрович.
Он взял паспорт у Шаляпина и мрачно спросил: «Где это?»
— Да вот тут, — показал Шаляпин. — Ну, «состоящий», «утвержденный», а то «причисленный» — ерунда. Какой-то мелкий чинуша.
— Постой, — уже совсем в сердцах сказал Тучков. — Дай чернила. — И, сев за стол, вычеркнул из паспорта обидное слово. — Причисленный — непричисленный, всё это вздор, пошлости. Но весна — и я еду. Сажусь на кряковую утку там, на реке, у леса…
— Позволь, в чем дело? То есть, как же ты на утку сядешь? — спросил Шаляпин.
— Довольно шуток. Ничего не понимаешь и не поймешь. Пой себе, пой, но в охотники не лезь, и все вы ничего не понимаете. Что вам весна? Понимаете, что значит до весны дожить? Дожить до весны — счастье. А вам все равно, у вас там, — он показал на грудь, — пусто. Я еду.
— И я, Павел, еду с тобой, — сказал серьезно Шаляпин. — Но только в чем же все-таки дело? Что значит сесть на утку? Надо же ясно говорить.
— Все равно не поймешь, — сказал Павел Александрович. — Не охотник — и молчи.
— Постой, — вступился я. — Всё очень просто. Берется утка и небольшой деревянный кружок, плоский, на палке. К кружку веревкой привязывается за лапу утка. Палку с кружком и уткой ставят на воду в реке, недалеко от берега. Утка плавает на привязи около кружка и кричит. А селезни летят на зов утки, и их с берега стреляют.
— А когда же на нее садятся? — серьезно спросил Федор Иванович.
— Довольно пошлостей, — рассердился Павел Александрович. — Вздор. Не то. Утка домашняя не годится. На нее не сядешь. Понимаешь? У ней селезень около всегда свой, а уток Герасим приготовил — ручных, диких, помесь с кряквой. Эти утки орут. Зовут селезней весной, и те летят к ним из пространства. Понимаешь? Женихи летят. А ты сидишь на берегу в кустах и стреляешь — одного, другого, десятого.
— Вот какая история… — сказал Шаляпин. — Бабы вообще бессердечны. Убивают любовника, а ей все равно. Теперь понимаю, в чем дело, и тоже еду…
На Ярославском вокзале мы все собрались. Публика поглядывала на могучую фигуру Федора Ивановича, одетого охотником, в высоких новых сапогах.
Когда сели в вагон, все были в хорошем настроении.
В весенней ночи горели звезды. К утру приехали на станцию, сели в розвальни, покатили по талой дороге, объезжая большие лужи.
В глубине весеннего неба летели журавли, и лес оглашался пением птиц. О молодость! О весна! О Россия!
Федор Иванович потерял папиросы и рассердился.
В моем доме, в лесу, у самой речки, пахло сосной. В большой комнате — мастерской — шипел самовар… Деревенские лепешки, ватрушки, пирожки… А в окна видны были горящие на солнце сосны, проталины и лужи у сарая. Куры кудахтали — весна, весна…
Герасим принес в корзине уток. Объяснял Федору Ивановичу, что утки эти не домашние, а помесь дикой с домашней. Эта орет, а на домашнюю сегодня не возьмешь…
К вечеру, на берегу разлившейся реки, в кустах, расселись охотники. А в воде, недалеко от берега, поставили кружки, у которых плавали привязанные за лапу утки и орали во все горло. Селезни дуром летели на утиный призыв. Их тут и стреляли.
Наутро они были поданы к завтраку. Федор Иванович был очень доволен, хотя, к сожалению, простудился. Насморк. Вероятно, потому, что оделся очень тепло в ангорские кофты.
Это лето [1903 года] Шаляпин и Серов проводили со мной в деревне близ станции Итларь. Я построился в лесу, поблизости от речки Нерли. У меня был чудесный новый дом из соснового леса.
Моими друзьями были охотники-крестьяне из соседних деревень — милейшие люди. Мне казалось, что Шаляпин впервые видит крестьян — он не умел как-то с ними говорить, немножко их побаивался. А если и говорил, то всегда какую-то ерунду, которую они выслушивали с каким-то недоверием.
Он точно роль играл — человека душа нараспашку; всё на кого-то жаловался, намекал на горькую участь крестьян, на их тяжелый труд, на их бедность. Часто вздыхал и подпирал щеку кулаком. Друзья мои охотники слушали про все эти тяжкие невзгоды народа, но отвечали как-то невпопад и видимо скучали.
Почему взял на себя Шаляпин обязанность радетеля о народе — было непонятно. Да и он сам чувствовал, что роль не удается, и часто выдумывал вещи уже совсем несуразные: про каких-то помещиков, будто бы ездивших на тройке, запряженной голыми девками, которых били кнутами, и прочее в том же роде.
— Этого у нас не бывает, — говаривал ему, усмехаясь, охотник Герасим Дементьевич.
А однажды, когда Шаляпин сказал, что народ нарочно спаивают водкой, чтобы он не сознавал своего положения, заметил:
— Федор Иванович, и ты выпить не дурак. С Никоном-то Осипычем на мельнице, на-кось, гуся зажарили, так полведра вы вдвоем-то кончили. Тебя на сене на телеге везли, а ты мертво спал. Кто вас неволил?..
Был полдень. Шаляпин встал и медленно одевался. Умываться ему подавал у террасы дома расторопный Василий Харитонов Белов, маляр, старший мастер декоративной мастерской. Он служил у меня с десятилетнего возраста; когда я впервые охотился в этих местах, отец его упросил меня взять его: «Дитев больно много — прямо одолели».