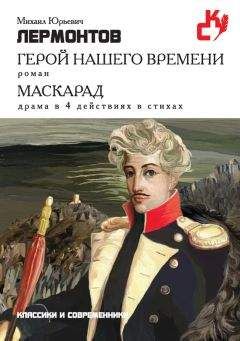Мицос Александропулос - Сцены из жизни Максима Грека
Максим поднял глаза, встретился со взглядом Артемия. Голубые глаза игумена светились решимостью. И снова монах вернулся к мысли, на которую уже навел его прежде русский собрат: маленького ребенка ведут за руку взрослые; юноша и молодой мужчина, точно быстроногие зайцы, увлечены крутыми подъемами и высотой; старцы выбирают где пониже и поровнее. Но бывает в человеческом возрасте момент, когда в выборе дороги исходят не из того, тяжела она или легка, а из суждения о достоинстве и смысле жизни. Тогда человек словно заключает в себе возраст человечества, находится посредине пути: сколько у него позади, столько и впереди. На этой вершине и стоит теперь Артемий.
— Брат Артемий, делай, как решил. Ты сейчас на вершине и видишь все, мое же солнце закатилось — не видит ничего. Выбирай, что тебе больше подходит, и да будет с тобой мое благословение.
— Я выбрал, старче. Уеду!
— Благословляю тебя.
…Артемий покинул келью Максима на рассвете.
— Больше я тебя не увижу, — сказал он под конец, — и ты меня не увидишь. Уеду отсюда тайком, в Кириллов монастырь даже не покажусь, затаюсь в каком-нибудь скиту, чтоб не проведал никто.
— Поезжай, Артемий, делай все, что будет в силах твоих. А я, ежели позовут меня в Москву, не поеду. Что сделает мне теперь царь Иван? Дни мои сочтены.
— Старче, — ответил Артемий, — дней твоих будет много, не кончатся никогда.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
Склонившись над столом, монах пояснял иконописцу композицию будущей иконы. Сюжет был известным, но русскому мастеру не довелось видеть иконы с этой сценой из жития Иисуса, и он затруднялся рисовать без образца.
— Здесь, — указывал Максим, — изобрази поле. Плодоносное, со зрелыми колосьями, из края в край. Пусть простирается оно, точно золотое благословенное море. Ближние колосья выпиши отчетливо — точь-в-точь такими, какими мы видим их перед жатвой. И постарайся, Анастасий, чтобы краски были посветлей, приложи к этому все свое искусство. Добавь золота и немного киновари, чтобы чуть-чуть зарумянились. Чтобы казалось, будто над изображением твоим витают запахи сухой травы… А вот тут изобрази фигуру господа…
На столе лежала бумага. Опытная рука старого иконописца, который уже отошел от дел и жил у Троицы на покое, наносила на лист то, о чем говорил Максим. Работа продвигалась быстро. Старец рисовал одним лишь углем, но пользовался им искусно: где тонкие паутинки штрихов, где сильные, четкие линии — и рисунок выходил, словно живой. Сначала, как и говорил философ, простерлось поле с колосьями, потом посередине поля выросла фигура Иисуса, справа и слева от него возникли рассеянные по полю другие фигуры. В глубине, в отдалении, показался город. Был он так далеко, что едва виднелись высокие каменные стены с башнями, за стенами — дома, церкви, кресты. Посреди крепостной стены выделялась арка ворот. Возле нее мастер изображал теперь другую группу людей.
Как раз в эту минуту, когда на бумаге начали проступать их далекие силуэты, дверь кельи распахнулась настежь. Побелевший от волнения, вбежал писец Григорий.
— Старче! — произнес он еле слышно, прерывающимся голосом, точно вместе с этим словом отлетала его душа. — Старче! Идет! — И растерянно огляделся по сторонам, словно ошеломленная птица.
Максим сделал ему знак рукой — пусть уйдет, исчезнет немедленно. Пусть забьется к себе в келью и не показывается оттуда. Обернувшись снова к столу, он заметил, как задрожала рука старого иконописца, как запрыгал в его пальцах уголек.
— Анастасий, не теряй душевного покоя, — попробовал воодушевить его Максим, — не оставляй своего дела.
Но и сам он тоже был взволнован. И, делая вид, будто следит за работой Анастасия, чувствовал, как неистово бьется его сердце.
Так, за стуком своего сердца, услышал он вскоре шаги свиты, пересекшей двор. Они были уже близко. Зрение Максима стало совсем слабым, и сквозь слезы, непрестанно сочившиеся из-под больных век, он смутно различил заполнявшие дверной проем фигуры людей. В келье потемнело. Впереди всех, высокий, гибкий, стоял царь Иван.
Оба монаха взмахнули крыльями, пали ниц. Голос Максима, чуть дрожащий, донесся словно издалека:
— Благодарю всемогущего господа, что удостоил меня узреть тебя своими глазами, прежде чем сомкнутся они навеки. Пусть сопутствует тебе мое благословение, великий православный царь, ежели угодно будет тебе принять благословение от меня, убогого…
Царь, стройный, как кипарис, смотрел на монаха с вниманием. Под его пронизывающим взглядом Максим почувствовал смятение. Однако как раз позади царя висела икона Вседержителя. Его лик, покойный и строгий, весь понимание и человеколюбие, а где следует — и непреклонность, вернул старцу душевное равновесие. Тревога Максима как бы утонула и растворилась в больших недремлющих и невозмутимых глазах Христа. Монах ощутил, как на душе у него прояснилось, разум снова был чистым и бодрым.
— Поэтому ты и видишь меня здесь, старче, — услышал он ответ царя. — Потому что хочу я получить твое благословение. И я, и царица, и царевич…
Максим перекрестился.
— Дважды благодарил я за тебя господа. Тогда, когда взял ты Казань, и тогда, когда встал после тяжкой болезни. Теперь благодарю его в третий раз.
Сверкающий взгляд царя был прикован к темному, иссушенному лицу монаха. Другим представлял его Иван. Правда, ему говорили, что теперь это тщедушный и слабый старичок, однако все, что читал царь из сочинений Максима, и все, что слышал о нем, рождало иные представления, и теперь ему словно не верилось, что этот старец, который того и гляди упадет при первом же дуновении ветра, и есть Максим Грек. «А не такими ли, как и он, были святые, которым мы сейчас поклоняемся?» — подумал Иван, а при последних словах Максима вдруг испытал соблазн склониться к его уху и крикнуть: «А что, старче, когда я родился, тебе не захотелось поблагодарить господа?»
— Узнал я, государь, — сказал Максим, — что задумал ты большое путешествие. Верно ли говорят?
— Верно, — ответил Иван. — Еду на Белоозеро поклониться святому Кириллу, я дал ему обет. Едут со мной царица Анастасия и царевич Димитрий.[204] Благослови нас в добрый путь.
Максим покачал головой.
— Царицу Анастасию я видел утром. И царевича благословил. Однако когда занемог ты и лежал в тяжелом недуге, я молился за тебя всем святым. Молился даже чудотворной иконе Богородицы, что в Ватопеде. Однако не пошел я для этого в Ватопед, отсюда помолился, из этой кельи. И богородица меня услыхала…
Царь был удивлен. Насторожили его не столько слова монаха, сколько его голос. Проницательный ум Ивана уловил, что сказано это неспроста и, чтобы докопаться до истинного смысла, следует размотать клубок слов, поискать под их внешними покровами.