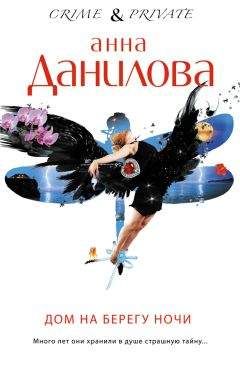Федор Торнау - Воспоминания кавказского офицера
Пробыв между ними несколько часов, я поехал с Тембулатом на Кубань, сопровождаемый взводом пехоты и сотнею донских казаков. Эта предосторожность была не излишня. Тамбиев, узнав о моем бегстве в то самое утро, собрал несколько десятков абадзехов, гнался за нами, потерял след, когда мы свернули к Лабе, потом подстерегал на Закубанской равнине и, раздосадованный неудачным поиском, бросился на Уруп, где отхватил шесть человек рабов и несколько десятков лошадей, принадлежавших Карамурзину, не переселившемуся на Кубань для того только, чтобы не отнять у себя возможности бывать у абадзехов и хлопотать о моем освобождении. Переправившись через Кубань против Убеженской станицы, я остановился в ней ночевать. Здесь незнакомый простой казак дал мне новое доказательство того горячего участия, которое прежние кавказцы принимали в судьбе своих сослуживцев. Получив от него приглашение к завтраку, для которого он уставил стол всем, что было лучшего в доме, я нашел в сборе у него станичных стариков, пришедших поздравить меня с освобождением из рук басурман. За Кубанью, на русской земле, я находился вне всякой опасности и мог сказать, что я действительно свободен. Плен мой длился ровно два года и два месяца: в ночь с девятого на десятое сентября тысяча восемьсот тридцать шестого года кабардинцы схватили меня на берегу Курджипса; ночью с девятого на десятое ноября тридцать восьмого года Тембулат Карамурзин увез меня от хаджи Джансеида.
Пробыв в Прочном Окопе очень короткое время, я поспешил в Ставрополь, где меня ожидала самая живая радость. После Вельяминова командовал войсками на линии П. Х. Граббе, под начальством которого я первый раз находился в огне, в тысяча восемьсот двадцать девятом году, при взятии турецкого города Рахова, – мой первый наставник в военном деле, любимый и уважаемый мною, сколько можно только любить и уважать человека его характера и военных достоинств. В его издавна мне знакомом семействе я нашел самый ласковый прием и нравственно мог отдохнуть, любуясь прекрасными детьми, которые позже, все без исключения, пошли по нем. Хорошая кровь и отцовский пример отозвались в них храбростью и благородством характера, поставившими их в число самых блистательных офицеров русской армии. Без генерала Граббе я был бы на Кавказе в положении совершенно осиротевшего человека. А.А. Вельяминова, полюбившего меня с чеченской экспедиции тридцать второго года, не было в живых. Барона Розена да коротко меня знавших Вольховского и барона Ховена потерял Кавказ. С ними уехали почти все мои старые товарищи; наша тифлисская военная семья, отличавшаяся согласием и совершенным отсутствием зависти и искательства, разлетелась во все стороны пространной России. Где было их отыскивать?
По получении известия о моем освобождении Государь потребовал меня в С.-Петербург “для отдыха и для личного объяснения”. Я испросил позволение привезти с собою Карамурзина и отправился с ним в дальний путь, получив желаемое разрешение.
На дороге я столкнулся недалеко от г. Ельца с генералом Вольховским, ехавшим из Динабурга, где он командовал бригадой, в Полтавскую губернию, с намерением, испросив отставку, служить по выборам. Он узнал нас ночью по черкесским шапкам, остановился на станции, приказал подать чаю и просидел несколько часов, подробно расспрашивая обо всем.
После нареканий, павших на него за беспорядки, будто бы им терпимые в кавказских войсках, в которых он, это я могу засвидетельствовать, совершенно был безвинен, все честолюбие этого умного, скромного и честного человека, всегда предпочитавшего истинную пользу наружному блеску, ограничивалось желанием получить в своей родной губернии место председателя гражданской палаты. Он достиг своего желания, но, к общему сожалению, умер несколько лет спустя. Мне он предсказал в ту ночь довольно верно ожидавшую меня служебную будущность и очень советовал не возвращаться более на Кавказ. Я не послушал его опытного совета и раскаялся потом, когда в сороковом году, без проку и без пользы потеряв здоровье в черноморской береговой экспедиции, должен был выехать из Крыма полуживой, и, наверное, умер бы без рациональной помощи, оказанной мне доктором Мейером, другом всех кавказских страдальцев.
В Москве я счел первою обязанностью явиться к умному и доброму Розену, накликавшему на себя невзгоду, право, только непомерною добротой и слишком большою снисходительностью к слабостям других. За Кавказом в мое время, кажется, не было более его прозорливого администратора. Старик, тронутый уже параличом, обрадовался, увидев меня живого, и со слезами на глазах просил извинить его в том, что не вполне доверился мне, отнюдь не полагая, что это поведет к таким последствиям. Охотно и душевно я простил ему, сохранив в памяти только добро, которым я от него пользовался.
Государь оценил свыше ожидания мои слабые заслуги и щедро наградил Карамурзина.
В заключение скажу два слова о судьбе изменивших мне кабардинцев.
Аслан-Гирей первый пал, как я уже рассказал, под ударами своего двоюродного брата, пока я находился еще в плену.
Тамбиев был убит два года спустя. Черкесы в числе сорока человек, и Тамбиев с ними, отправились грабить на линию; у нас знали о их намерении и приготовили западню. Недалеко от Кубани заяц перебежал им дорогу. Тридцать три человека, считая это дурным предзнаменованием, вернулись назад. Семеро, между ними и Тамбиев, пренебрегая подобным предрассудком, пошли вперед, на рассвете встретили линейных казаков, были окружены и все перебиты. Тамбиев, не славившийся прежде молодечеством, как сказывали свидетели дела, умер весело, и тем поправил свою репутацию.
Хаджи Джансеид жил долее. В тысяча восемьсот сорок третьем году он кончил жизнь на моих глазах. Я служил тогда опять на Кавказе. Небольшой отряд из двух пехотных батальонов, пятисот линейных казаков и четырех орудий провожал командующего войсками на линии В.О.Гурко, выехавшего осмотреть места на среднем Урупе. При обратном следовании мне было поручено с полсотнею мирных ногайских князей опередить отряд для занятия скалистой высоты, заслонявшей нашу дорогу. Неприятельская конница, не успевшая завладеть ею, стала собираться на противулежащей горе; пешие черкесы бежали к ней на подмогу. Наблюдая за неприятелем в зрительную трубу, я заметил на другой горе ездока в желтой чалме, смотревшего также в трубу на наши приближающиеся войска. Это был хаджи. Мои ногайцы не замедлили узнать его и подняли крик: “Твой приятель! Твой приятель!” Он узнал меня в свою очередь, и мы обменялись поклонами. Через час подошли войска, мы спустились в долину, разделявшую обе горы, и дело началось. Триста конных черкесов, желтая чалма впереди, без выстрела, без крика налетели неожиданно на овраг, в котором залегли спешенные казаки, спустились в него и стали рубить их. Конницы не было под рукою, пехота находилась довольно далеко, одно казачье орудие стояло вблизи. Я приказал ему скакать навстречу черкесам. Храбрый сотник Бирюков, не дожидаясь прикрытия, стрелою подлетел с ним к неприятелю на триста шагов, снял с передка и двумя картечными выстрелами совершенно его смешал. Желтая чалма исчезла в дыму и более не показывалась; уходящие черкесы подняли чье-то тело. Тембулат, бывший возле меня, своим соколиным глазом увидал падение Джансеида.