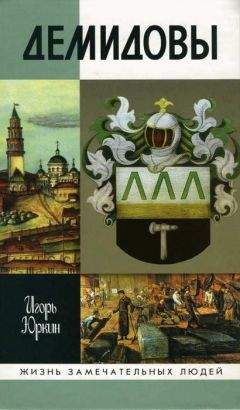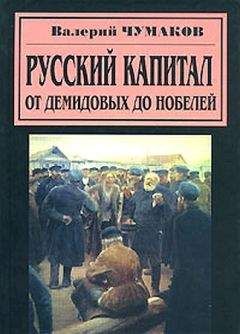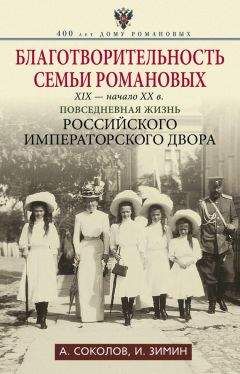Виталий Кривенко - Дембельский аккорд
Под конец рассказа язык мой начал ощутимо заплетаться, появился сушняк. Я затушил наполовину недокуренный косяк и, подняв его над головой, произнёс:
— Бауржан, может возьмёшь с собой на тот свет этот косяк? Господь тебя за такой «план», в рай на руках отнесёт.
Я бросил недокуренный косяк на землю.
— Ты на меня не обижайся, Бауржан. Это я так, гоню сам по себе. Да ты и сам всё понимаешь.
Меня стало заносить в нейтральные воды, между реальностью и тем, что находится за её пределами.
Я встал и повернулся к мертвому Бауржану, всё вокруг приобретало странный и до боли знакомый смысл. Смысл бестолковости и нелепости нашего земного бытия. Я стоял и пристально вглядывался в это мертвое лицо. В памяти я представлял Бауржана живого, его взгляд, то, как он смеётся. Со временем мне стало казаться, что лицо это уже не такое мёртвое, в моём сознании оно стало приобретать чуть уловимые, живые оттенки. На мгновенье мне даже показалось, что губы его дрогнули, и он вот-вот заговорит. Но с другой стороны, я отчётливо осознавал, что чудес не бывает, и это всего лишь иллюзии под кайфом, на самом деле Бауржан, конечно же, мёртв, это факт, и он неоспорим.
Я подумал про себя, что если я ещё немного вот так, молча постою, то заговорит уже мертвец.
— Бауржан, а может, ты всё-таки меня слышишь, хоть мёртвый, а слышишь? Тогда скажи. Ну как там, в царстве мёртвых? Наверно, уже встретил, кого-нибудь — бога, чёрта или совесть свою, а может, там нет ни хрена? Ответь мне, Бауржан? А то мне недавно один мулла талдычил про какой-то суд совести. А где же совесть тех, кто нас сюда посылает? Или, может, у них нет ваще этой совести?
Я огляделся вокруг себя, и громко произнёс:
— Ну, где же ты, мулла?! Появись и объясни. Скажи, кто же будет судить их. Может, та самая совесть, которой у них и в помине нет. Или всё-таки бог, если конечно, он вообще есть?! Ах, да, совсем забыл! Ведь для нас всех, оказывается, партия — совесть, а ещё она, и ум, и честь. А вместо бога — Ленин. Если живой останусь, съезжу в Москву и схожу в мавзолей, а то ни разу не видел своими глазами господа нашего. А если честно сказать, то ну их всех к чёрту, мозги поласкают всякой ерундой. Одни орут, что партия главнее, другие, что бог всемогущ. Одни послали нас на смерть, а другой сидит где-то сверху и палец о палец не стукнет, чтоб остановить этот бардак. Ну и где же тут правда? И в кого теперь верить. В бога, или в партию? Скажи, Бауржан. В кого? Хоть верь тут, хоть не верь, а исход всё равно для всех один — смерть, а дальше неизвестность.
Я ходил вдоль ящиков, то туда, то обратно, жестикулировал, нёс всякий бред. Если б кто-нибудь меня тогда увидел, то подумал бы, что я свихнулся. А может быть, в тот момент так и было на самом деле, просто я этого не замечал. Сумасшедшие ведь не знают о том, что они сумасшедшие. Пусть всё это, на первый взгляд, и покажется бредом, но мне надо было перед кем-то высказаться, или, точнее, излить душу. А больше было не кому, потому как замполиту такое не выскажешь, он бы меня просто не понял. А бог мой бред или не слышал, или не слушал. Вот я и высказывал всё мертвецу, он был единственный, кто выслушает тебя молча, поймёт, и не осудит.
Окончательно продрогнув, я начал осознавать, что зря сотрясаю воздух, и что надо наконец-то вернуться в палатку. Взглянув последний раз на безжизненное лицо Абаева, я накрыл его откинутым углом брезента, и тих сказал:
— Прощай Бауржан. Тебе уже всё равно, а я задубел как собака. Ты не волнуйся, скоро прилетит вертушка, а дальше, ты сам наверно знаешь: оденут тебя в цинковый фрак, вручат зелёную «ксиву», погрузят в «чёрный тюльпан», и полетишь ты в родной Казахстан.
Развернувшись, я медленно побрёл в палатку. Пройдя несколько шагов, остановился и, не оборачиваясь, произнёс напоследок:
— Пипку привет передавай. Ну, и всем остальным, кого там встретишь. Скажи, что мы, живые, всегда будем помнить о вас. Если бога там встретишь, напомни ему о нас, а то он наверно забыл про Афган.
Грудь сдавила жуткая тоска, хотелось волком выть, провалиться сквозь землю, исчезнуть из этой жуткой жизни, и не возвращаться сюда никогда, как исчезли из неё те, кого уже с нами нет.
Я резко нагнулся, рывком выдернул нож из ножен и, тяжело дыша, приставил торец рукоятки ко лбу. Постояв так несколько секунд, я заткнул нож обратно, после чего достал сигарету, и дрожащими руками прикурил её. Страх смерти, оказался сильнее, чем кратковременный порыв. Смерть — это слишком уж лёгкий выход, намного тяжелее жить и сохранить рассудок.
Что-то защекотало щеку, как будто по ней скатилась слеза. Я провёл тыльной стороной ладони по давно не бритой щеке, и посмотрел на руку, так и есть — слеза, редкая, скупая солдатская слеза. И уронил я эту слезу, скорее всего, от жалости к себе самому.
Мы в то время ещё не умели оплакивать погибших. Нас мучила лишь боль, иногда вырывавшаяся в стон, и внутри кипела злость. А что касается слёз, то они придут потом.
Разговор
Вернувшись в палатку, я сел на носилки и укутался в одеяло. Время опять остановилось. В памяти крутился недавний сон. Меня преследовало чувство непонятного страха. Я еще могу понять страх от чего-то реального, но когда боишься того, чего не знаешь, это как-то жутковато.
«К чему это все? К чему? Почему во сне Хасан оказался рядом с Лейлой? Этот странный взгляд Туркмена, будто он хотел меня от чего-то предостеречь. Почему в этих снах я постоянно срываюсь в пропасть и просыпаюсь от ужаса, после которого комок в горле? Почему?» Такие вопросы я мысленно задавал себе, и не находил на них ответы.
Что-то должно произойти, не знаю — что, и не знаю — когда, но этот сон не может повторяться бесконечно, все равно настанет момент, когда он во что-то выльется, так было уже не раз.
«Подожду еще немного, если никто не появится, пойду пешком искать свой блок, а то с ума можно сойти, оставаться наедине с собой становится уже невыносимым».
Я закурил сигарету, и в тот же момент услышал, как мимо палатки с ревом пронесся медицинский тягач и остановился где-то рядом. Через секунду раздались голоса и топот, поведение медиков ничего хорошего не предвещало. Похоже, что привезли откуда-то раненых или убитых. Но откуда? Ночь вроде прошла тихо, стрельбы похожей на перестрелку слышно не было. Я поднялся с носилок, и направился к выходу. Снова послышался гул моторов, судя по звуку, подъехал БТР. И тут я услышал голос Туркмена.
— Бережной где лежит? — крикнул он, обращаясь к медикам.
В этот момент я уже вышел из палатки. Наш БТР стоял метрах в двадцати от меня.
— Туркмен! — выкрикнул я.
Нурлан, услышав окрик, обернулся и, спрыгнув с брони, направился в мою сторону. Шел он не спеша, опустив глаза, и глядел себе под ноги, как будто боялся споткнуться на ровном месте. В его походке и опущенном вниз взгляде было что-то необычное, тревожное, не похожее на поведение Туркмена, это был не тот Туркмен, которого я привык обычно видеть с радостной улыбкой и блеском в глазах. Приблизившись, он посмотрел на меня, мы встретились взглядами. Я в тот же момент понял: что-то случилось. Туркмен изобразил подобие улыбки, во взгляде его не было той знакомой мне радости от встречи. Он обнял меня за плечи, а я все не сводил с него взгляда, ожидая, что он сейчас сообщит что-то неприятное.