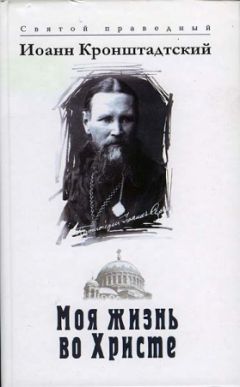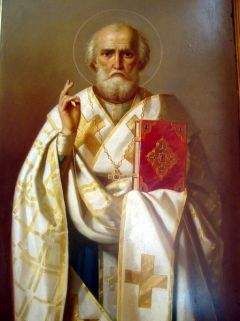Андрей Тарковский - Ностальгия
Ностальгия художника XX века не ограничена домом как местом рождения. Свою национальную принадлежность он несет в себе. Он сам — часть своей культуры и языка, где бы он ни был. Эта общая с Хлебниковым ностальгия высокой человеческой болезни, описанной Вернадским, в ощущении себя не только частью «своего», но и «вселенского» дома. «Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В нем малые вздохи, как земля, кружились кругом большого». Это сказал Хлебников, но мог бы сказать и Тарковский.
Гулливер-Велимир был раскованнее, естественнее, свободнее Андрея Тарковского. Тарковский не мог «Господу ночей» сказать «братишка», в нем не было сладостного забвения страха. За пятьдесят лет пропасть сильно приблизилась к нашим ногам. Одна из работ Велимира названа им «Время — мера мира», Тарковского — «Запечатленное время». Поиски единого дома в связях природы, человека, вселенной ведут обоих разными путями к эпической форме повествования, которую у Тарковского можно проследить от «Иванова детства» и «Андрея Рублева» до «Жертвоприношения».
Именно эпическая форма с ее укрупненными метафорическим образами природы, предметов и характеров точнее характеризует его стиль, чем распространенное определение — фрески. Как и Хлебников, он художественно живет в эпическом мире и, что еще важнее, во времени, а точнее, временах, в «сейчас» и в «вечно».
Ведь мир Тарковского, лишающегося временного дома, одновременно осуществляется через героев и природу в настоящем — ровно столько же, сколько в прошлом и будущем. Тарковский принадлежал к поколению, восстанавливающему через всеобщие связи пути и дома мир нравственной, культурной и природной экологии. Психологическая среда отношений далека поэзии Хлебникова.
И, наконец, последнее замечание короткого очерка — это связь Востока и Запада для России, их взрывная нерасторжимость.
Древняя, породистая дагестанская кровь по линии отца и исконно русская интеллигентность со стороны матери — Марии Ивановны Вишняковой — у Андрея Арсеньевича Тарковского.
«В моих жилах есть армянская кровь (Алабовы), — писал в автобиографии Хлебников, — и кровь запорожцев (Вербицкие), особая порода которых сказалась на том, что Пржевальский, Миклухо-Маклай и другие искатели земель были потомками птенцов Сечи». Какое определение — «искатели земель»! И здесь у обоих проходит молния, соединяющая две стихии.
Оба знали-о своей смерти, ибо многое о себе ведали, и обоим умирать было трудно.
«Всей силой своей гордости и самоуважения я опускал руку на стрелку судьбы, чтобы из положения внутри мышеловки перейти в положение ее плотника» — так выразил Владимир Хлебников усилие одного пути, которое в равной мере относится и к Андрею Тарковскому.
Григорий Померанц[87]
У дверей замка
Мне уже приходилось писать об Андрее Тарковском. Но в разговоре об искусстве нет окончательных истин. Случай заставил меня пересмотреть свои старые впечатления, и я почувствовал семь фильмов как семь глав одной серии. Насквозь субъективной и в то же время «транссубъективной», как сказал бы Бердяев. И в этом лирическом эпосе все главы оказались нужны — и совершенно удавшиеся, и менее удачные. Ничего нельзя отбросить. Подобно поискам Сталкера, все повороты пути режиссера ведут к одной цели. Сталкер видит, что Писатель и Профессор ничтожны, что они бесконечно далеки от «сокровенного желания», да и сам он не дорос до него, и все же не теряет надежды, идет к комнате, где может просиять свет, и ведет за собой других.
В единстве серии мальчик из «Иванова детства» сблизился с мальчиком из «Зеркала», военные приключения отодвинулись назад, а вперед вышел вопрос, с которым Иван Карамазов обратился к Богу: почему страдают дети?
И как жить человеку, ранимому, как ребенок, в этом страшном мире? Частные вопросы тонут в сверхвопросе: как светиться в мире, утопающем во тьме? И Отечественная война, и XV век, и научная фантастика, и современность — только точки, в которых этот вечный вопрос выходил из глубины наружу.
Сразу за «Ивановым детством» Тарковский почувствовал, что был в России человек, знавший решение, — Андрей Рублев. Время, когда жил Рублев, было не лучше нашего (это в фильме показано). И все-таки он сумел написать «Троицу», написать иконы звенигородского чина с обжигающим Спасом. Фильм «Андрей Рублев» — попытка показать, как это вышло. Но попытка захватывает только как замысел. Воплотить его не удалось. Режиссер все время соскальзывает на то, что ему легче понять, на обстановку, в которой Рублев жил, создает несколько ярких новелл — и не умеет войти во внутренний мир святого. Лица Андрея Рублева и Феофана Грека не складываются в моем уме с рублевскими и феофановскими ликами. Но в единстве серии неспособность впрямую подойти к тайне святости становится подступом к «Солярису».
Цельность просветленного духа метафорически представлена там планетой, где сознание родилось без распада жизни на особи, в нераздельности Мирового океана. И беспомощность ученых-космонавтов, не умеющих вступить в разговор с Солярисом, — метафора неудач дробного ума подойти к тайне святости и Бога. Сознание, зарывшееся в анализ частностей, неспособно мыслить Целое, неспособно (если воспользоваться языком Сент-Экзюпери) связать двойственность и дробность «Божественным узлом». Солярис отказывается вступить в разговор с учеными на их языке. Он молчаливо требует постичь его язык. Они этого не понимают и пытаются действовать силой, жесткими лучами (подобием «мозгового штурма» проблемы, требующей скорее тихого вглядывания).
В ответ Солярис вызывает из их памяти то, что хотелось забыть, и мучает воспоминаниями.
Чувство вины, охватывающее космонавтов, напомнило мне «Сон смешного человека» Достоевского. Смешному человеку так же недоступно Целое вселенной, как космонавтам — целостность Соляриса. Жесткие лучи, направленные в нераздельность океанического сознания, — подобие ума, вторгшегося в жизнь планеты, не знавшей грехопадения. Защититься планета не сумела. Но здесь сюжеты расходятся.
Оборона Соляриса напомнила мне опыт двух американских психологов лет 20 или 30 назад. Большой группе пациентов (более 200) был дан препарат LCD. Одиннадцать человек пережили вспышку внутреннего света, наподобие той, которую иногда вызывает любовь или красота; другая группа (примерно 35 или 36 человек) испытала острое чувство вины за какие-то свои поступки; этот призыв к покаянию врачи поняли как болезнь и лечили ее. Остальные — около 80 % — увидели нечто вроде телевизионной рекламы, яркие образы вещей. Персонажи фильма «Солярис» принадлежат ко второй группе с разной степенью чувствительности к мукам совести. Один кончает с собой, другой доходит до духовного сдвига, до попытки жертвенной любви. Это высшая нравственная точка героя второй группы, и фильм «Солярис» — единственный, где эта точка достигнута. Я думаю, что именно вторая группа составляет большинство среди зрителей Тарковского.