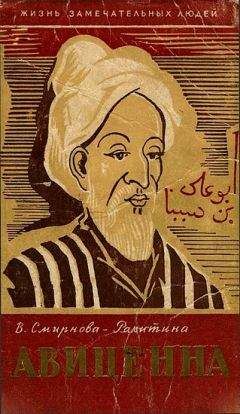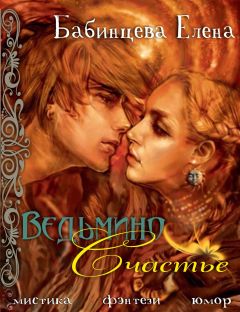Вера Смирнова-Ракитина - Валентин Серов
Произведение это необыкновенно по своей манере, к тому же совершенно выпадает из всего стиля серовских вещей. На незакрашенном холсте нарисовано стилизованно худое, плоское, угловатое тело, лишенное каких бы то ни было признаков женственности, я на плечах этой фигуры — красивая, объемно написанная голова с пышной гривой завитых волос. Это произведение модернистское по самой своей сущности, написанное в условно-реалистической манере, стильно и монументально, хотя и изображает опустошенную, изощренную каботинку. Портрет, несмотря ни на что, таит в себе удивительное очарование. Даже самые рьяные противники этой вещи через какое-то время начинали понимать ее талантливость, значительность и необыкновенность. Так произошло, например, с Ильей Ефимовичем Репиным, который сначала, увидев «Иду», чуть не упал в обморок от отвращения, признал ее «гальванизированным трупом», а некоторое время спустя уже говорил, что хотя портрет и неудачный, но как же он выделился, когда судьба его забросила на «базар декаденщины». Под «базаром декаденщины» Репин подразумевал международную римскую выставку 1911 года, на которой у «Иды Рубинштейн» был огромный успех.
Но, кажется, нисколько не меньший успех был у портрета княгини О. К. Орловой. Его Серов писал в предыдущем году, так же как и Иду.
Это исключительное по силе и мастерству полотно— одна из высот художественного гения Валентина Александровича. Здесь он снова реалист, со своим пленительным колоритом, с тонко и точно подчеркнутым характером модели. Роскошная светская дама, нарядная красавица, законодательница мод написана в окружении своей пышной обстановки. Это тоже один из «демонов» русской действительности, которых так блестяще развенчивает Серов. Так она и трактована, эта женщина-орхидея, закутанная в меха и шелка, присевшая на кончик стула в ожидания, когда ей подадут лимузин, чтобы ехать на придворный бал.
· · ·На римской выставке, где Серову предоставлен целый зал, много работ. Из последних, кроме «Иды» и Орловой, портрет И. А. Морозова, написанный на фоне матиссовского панно, остальное — старое, все то, что кажется Серову этапным. Бенуа в своих письмах о римской выставке, захлебываясь, рассказывает о необычайном успехе Серова.
Портрет «Иды Рубинштейн» приобретен Императорским музеем Александра III. Приобретение это — скандал. В газетах целая свистопляска. Серову приходится писать своим друзьям Цетлиным: «…Остроухое мне, между прочим, говорил о вашем намерении приютить у себя бедную Иду мою Рубинштейн, если ее, бедную, голую, выгонят из музея Александра III на улицу. Ну что же, я, конечно, ничего не имел бы против — не знаю, как рассудят сами Рубинштейны, если бы сей случай случился. Впрочем, надо полагать, ее под ручку сведет сам директор музея граф Д. И. Толстой, который решил на случай сего скандала уйти. Вот какие бывают скандалы, то есть, могут быть. Я рад, ибо в душе — скандалист, да и на деле, впрочем…»
«Ида Рубинштейн» все же в музее осталась, и скандал затих, но причина этого затишья была трагическая.
Последние годы Валентин Александрович живет на каком-то невероятном подъеме. Всегда медлительный и не любящий писать быстро, требующий от своих моделей до девяноста сеансов, тут он работает молниеносно. Античные композиции сделаны в пяти-шести вариантах — ничто его не удовлетворяет. Откинув антику, он бросается снова к своему любимому Петру I. Возникают рисунки, наброски, варианты «Кубка большого орла». Снова перерабатывается «Петр в Монплезире». Серов рисует и пишет Петра в разных позах, за разными делами: то он на работах, то верхом, то Валентин Александрович увлекается мыслью сделать композицию «Спуск корабля при Петре Великом». Снова, едва попадая в Петербург, он обходит и объезжает места, связанные с деяниями царя-плотника. Но, работая над всеми этими замыслами, Серов не оставляет и извечного своего дела — иллюстраций к крыловским басням. А из Парижа привозит листы акварелей, темперы, рисунки. И кроме всего — без передышки портреты. После Орловой и Морозова он пишет Нарышкиных, Стааль, чету Грузенберг, Муромцева, Кусевицкую. Он по-прежнему то в Москве, то в Петербурге, то в Сестрорецке. По-прежнему легкий на подъем, он дважды в 1910 году едет за границу, с тем чтобы между прочими делами писать портрет молодой хозяйки виллы в Биарице М. С. Цетлин.
Едва попав за границу, Серов тут же окунается в дела дягилевской антрепризы. Русские балеты, которые сводят с ума иностранцев, действительно стоят на очень высоком уровне. Участвовать в них — честь. Вот где широчайшее поле для применения новых принципов декоративизма, для поисков стиля, которые еще так недавно были Серову чужды. Ведь даже декорации к «Юдифи» он писал в монументально-реалистическом плане, без какой-либо стилизации. А сейчас он заражен. Его пленяет острое и пряное искусство любимца парижской публики Бакста. Ему хочется попробовать и свои силы. Весной 1911 года в Париже он спешно пишет занавес для «Шехеразады», нарядное стилизованно-восточное панно, навеянное персидскими миниатюрами. Это его второй вклад в пропаганду русского музыкально-балетного искусства. Первый был совсем неожиданный — год назад статья-отповедь директору императорских театров Теляковскому, который осмелился сказать, что дягилевские постановки недостаточно художественны.
Следом за дягилевской труппой Серов едет в Лондон. Теперь уже, кажется, вся Европа ему известна. В 1910 году он побывал уже в Испании, даже посмотрел на бой быков. Ему можно бы упоенно радоваться жизни, так прекрасно жизнь награждает его за труды. Он и радуется, особенно когда хорошо чувствует себя. Он даже пишет: «Живу я, как Эдуард VII, не хуже». Но здоровье иногда подводит. Болит грудь. И тогда он спрашивает Валентину Семеновну: «Расскажи, как умирал отец…» А чуть отойдет, он снова берет карандаш или кисть в руку — ему лишь бы писать.
Москва. Поздняя осень 1911 года. Только что окончен великолепный, но очень обидный для самой модели портрет Владимира Осиповича Гиршмана. Прекрасно вылеплена голова, большое сходство, интересная поза, но жест… Жест невозможен!.. Жест барина-нувориша, вынимающего из жилетного кармана золотой, и хорошо, если золотой, а то, может быть, так, мелочишку, чтобы дать на чай дворнику.
Гиршманы попробовали было заикнуться, что очень уж не того… Серов только сверкнул глазами: или так, или никак. Вот и разговаривай с ним после этого. А еще друг-приятель… Пришлось повесить портрет куда-то в дальние комнаты.
Одновременно он пишет портрет Генриэтты Леопольдовны, тот, что в овале. Это такой портрет, что около Серова хочется ходить на цыпочках. Страшно беспокоить такого художника…