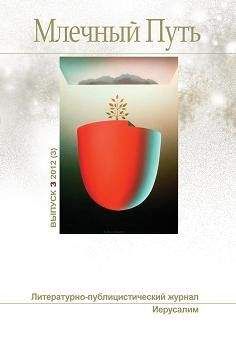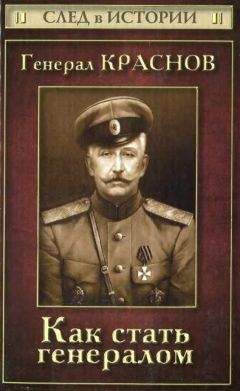Станислав Лем - Черное и белое (сборник)
Этим своим успехом – я говорю о возможности различного толковании рассказа, который может быть понимаем как действительно психологический при полном отрицании всяческих притязаний спиритизма, – он обязан в первую очередь отсутствию авторских комментариев, которые бы пытались удостоверить, собственно говоря, спиритическую базу явлений. Это отсутствие следует из формы повествования, ведущегося от первого лица. Из этого замечания должно следовать, что если процесс перемещения смысловых акцентов с антинатуралистической основы в сферу натуралистической подлинности (например, из спиритизма в глубины психологии) окажется невыполнимым, то произведение должно разделить участь той дискурсивной среды, которая его породила. Или, говоря то же самое иначе, если авторское изложение событий нераздельно срастается с самими событиями, то произведение жизнеспособно настолько, насколько жизнеспособно это изложение. Если же начинает вызывать жалость тайное знание, являющееся предметной средой рассказа, то необыкновенность идет вместе с этим знанием в чулан.
Именно оттуда берет начало фатальная закономерность, разделяющая сегодня труды Грабинского на две части. К сожалению, он пошел неправильной дорогой, становясь все более прекрасным глашатаем оккультизма и именно из-за этого все более беззащитным автором, поскольку чем больше таких сведений он вводил в произведения, тем к худшему это вело.
Впрочем, превращение восхитительных предположений дискурсивной мысли в мертвую букву – это вовсе не недуг жанра, в котором творил Грабинский, а обыденность литературы, и потому самим ходом времени испытывается правило, предписывающее писателям доверяться естественному течению событий, для которых объединяющим фактором должно стать произведение, а не каким-либо однозначным дискурсивным и комментирующим интерпретаторам этих событий. Иначе говоря, литература никогда не должна браться за иллюстрирование каких-либо гипотез или теорий, взглядов или предположений, сведенных к единому знаменателю неоспоримой истиной, не должна видеть свою миссию в доказывании этой истины историями – что является партикулярным воплощением системно единой концепции. Эта директива не может, разумеется, касаться комментариев, относящихся к персонажам повествования, – ведь те всегда могут подвергнуться переобоснованиям или просто «объяснениям», похожим на то, которое мы привели выше. Без сомнения, знание описываемой темы писателю необходимо, дело только в том, чтобы он не стал ее слишком страстным популяризатором, принимающим, например, произведения за доказательства истинности необыкновенных явлений. Очевидно: нельзя всю литературу ужаса и мистики в той ее части, которая (подобно книгам Э.А. По) успешно противостоит разрушающему воздействию времени, воспринимать как подвластную проведенной мною «натурализации» ужаса благодаря ее переводу в область психологии. Жизнеспособным произведениям свойственны различные виды смысловой глубины, как аллегорической, так и символической – или же вплетенной в далекие друг от друга области человеческого знания. Но здесь я не брался за обсуждение всего жанра, создающего довольно много дилемм, поскольку я прежде всего хочу обратиться к творчеству писателя моей львовской молодости, который не потерялся в соперничестве со своими ровесниками европейцами. Надо не столько сокрушаться над тем, что многие его книги для нас устарели, сколько, пожалуй, выразить восхищение полету его воображения – раз уж его плоды пережили кончину сомнительной метафизики, которая когда-то служила им в качестве опоры.
Грабинский создал не много произведений столь прекрасных, как «Любовница Шамоты», но он создал их достаточно, чтобы не стать забытым писателем.
Послесловие к «Рассказам старого антиквара» М.Р. Джеймса
Монтегю Родс Джеймс – выписываю я из примечания английского издания – родился в 1862 году. После учебы в Итоне и Кембридже – то есть там, где следует, – занимался археологией, исследованием Библии, изучал археологические находки и апокрифы. Рассказы о привидениях писал с 1894 по 1908 год, когда был директором Музея в Кембридже. О его серьезных научных работах, наверное, мало кто помнит даже и из специалистов, а вот рассказы, собранные в этом томе, к которым сам автор относился без пиетета, сохранили свое очарование, о чем свидетельствуют хотя бы многочисленные в Англии переиздания. Ибо Англия на переломе столетий была страной, весьма благосклонной к необыкновенным существам, навещавшим старинные трактиры на перепутьях (пустых тогда) дорог, угрюмые и возвышенные кладбища, а также просторные резиденции разных лордов. Удобству призраков замечательно помогал полумрак долгих вечеров и еще более долгих ночей, поскольку это была эпоха свеч и газовых ламп, тех самых, при свете которых Шерлок Холмс одолевал честную (прекрасно реконструируемую логическим путем) преступность британской Империи. Легко представить, как затруднило бы наличие электрических лампочек выступления тех кошмарных сил, которые роятся в книге Джеймса. Антикварную ученость, которой автор украсил действие своих рассказов, он сам же демаскировал в примечаниях к английскому изданию, подробно указывая в них, что и как выдумал, – в чем естественно проявилась типичная английская черта этого типа «ghost story»[179]: Джеймс, как можно судить по этому признанию в выдумке, не только сам не верил в духов, но даже и не старался скрыть это от своих читателей. Несмотря на это, в его дышащих стариной рассказах таится обаяние, которого уже не встретишь в новейшей новеллистике «ужасов». Я думаю, что это обаяние скромным произведениям Джеймса придает солидная вещественность или, может быть, даже в первую очередь, обстоятельства времени и места, то есть Викторианская эпоха. Эта эпоха создала мертвый ныне образ Англичанина – господина, посвятившего себя делам Империи наравне со своими частными тайнами в старинной резиденции, – с безупречными слугами, с запертыми комнатами, куда не заходят годами, с глубокими подземельями, где привидения также отличались консерватизмом, пугая в соответствии с давным-давно установленной традицией. Если даже привидений не существует, не может быть подвергнуто сомнению существование этой традиции, следовательно, речь идет о своеобразной форме фольклора, многократно обработанного различными способами, а Джеймсом любовно изображенного в антикварно-музейной детальности, – и именно этот загробный фантастический педантизм обеспечил рассказам Джеймса живучесть.