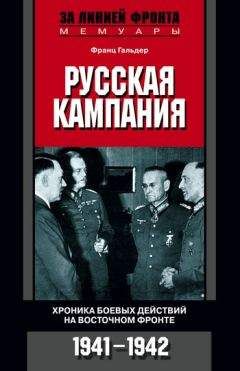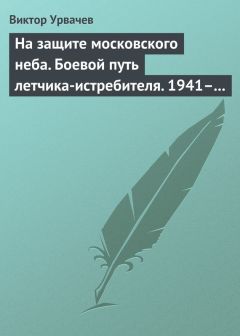Александр Махов - Тициан
Оказывается, на всех в Ватикане нагнал страху неаполитанец кардинал Караффа, которому в вопросах чистоты веры не смеет перечить даже генерал ордена иезуитов воинственный Лойола. С ним вынужден считаться и сам папа Павел, у которого возникли серьезные трудности в семье, и он обеспокоен тем, чтобы домашние неурядицы не вызвали кривотолки в римской курии и не подорвали бы ее весьма шаткое единство. Дело в том, что, учитывая свой преклонный возраст и всячески заботясь о благополучии своего клана, папа Павел ведет переговоры с Карлом V о передаче под юрисдикцию церкви земель Пармы и Пьяченцы, чтобы образовать новое независимое государство для сына Пьерлуиджи. Но император, испытывающий финансовые затруднения, запросил непомерно высокую цену отступного — 600 тысяч золотых дукатов, — и поставил непременным условием, что во главе нового государства ему хочется видеть не воинственного Пьерлуиджи Фарнезе, а его сына и своего зятя Оттавио Фарнезе. Амбициозный внук был не согласен с планами деда и гнул свою линию, плетя интриги против собственного отца и явно подыгрывая Карлу. Напряженное положение в папском семействе еще более осложнилось после того, как папа Павел на днях, 16 декабря, произвел в кардиналы пятнадцатилетнего внука Рануччо, вызвав тем самым зависть его старшего брата Алессандро, которому хотелось бы видеть себя единственным кардиналом Фарнезе.
Все эти перипетии не замедлили сказаться на семейном портрете Фарнезе. Папа Павел принял окончательное решение, о котором был поставлен в известность Тициан. На картине с понтификом вместо сына Пьерлуиджи должны быть изображены герцог Оттавио, представитель светской ветви, и кардинал Алессандро, а для юного Рануччо, ранее изображенного великим мастером, места на картине не нашлось, что вызвало бурю негодования отца и матери отрока. Но хитрому папе Павлу удалось несколько успокоить растревоженное осиное гнездо, устроив помолвку внучки Виттории Фарнезе с овдовевшим недавно урбинским герцогом Гвидобальдо II делла Ровере.
Теперь все фигуры на шахматной доске расставлены и можно приступать к картине. Правда, о гонораре за уже написанные три портрета Павла III, сидящего в кресле в красной шелковой накидке и папском головном уборе camauro, — а на одной картине изображен и кусок вечернего неба, — никто не заикался. У Вазари можно прочесть занятную байку об этих трех работах, выполненных в Бельведере. На портрете Павел III выглядел столь живо и натурально, что когда картина была выставлена в одном из залов для просушки, проходящие мимо служители дворца преклоняли перед ней колени, думая, что перед ними сидит настоящий папа. Вазари нередко «заносило», и он искренне верил собственному вымыслу.
Рождество Тициан с сыном встретили на службе в Сикстинской капелле, где собралось множество друзей. Был там и Микеланджело, который пригласил к себе венецианского гостя на встречу Нового года. После службы Тициан решил подышать свежим ночным воздухом. Оказавшись на площади Святого Петра, сплошь заваленной мраморными блоками для возводимого храма, Тициан остановился перед группой ряженых — видимо, это были каменщики со стройки. Под звуки волынки и пастушьих рожков они пели и весело плясали, вовлекая в хоровод запоздавших прохожих:
Возрадуйся, честной народ,
И разогни на время спину.
Забудь нужду, невзгоды, гнет
И не гневи свою судьбину.
Пока во фьясках есть вино,
Нам, грешным, море по колено.
О большем думать не дано —
Мы мечены печатью тлена.
Невеселая песня — на Рождество, да за упокой. Такого в Венеции, пожалуй, не услышишь. Там на праздник тоже любят выпить, но настроения совсем иные. Зная, что великий мастер живет бобылем, Тициан решил пойти в гости один, оставив Орацио на попечение подоспевшего весьма кстати Дель Пьомбо, которому отныне заказан доступ в дом мастера. За ним заехал Вазари, и они вдвоем отправились к развалинам римских форумов. Надежным ориентиром служила видная издалека белесая, с пустыми глазницами, громада Колизея, где в те годы располагались рынок скота и бойни. Среди мраморных колонн и полуразрушенных арок императоров Тита и Константина и других памятников античности мирно паслись быки, коровы и овцы в ожидании своей участи, а над кучами мусора и отбросов стаями кружило воронье.
Близ колонны Траяна из-за деревьев сада выглянул небольшой дом. Во дворе их встретил разбитной малый Урбино, помощник и слуга мастера. Отогнав от двери стаю кошек, с мяуканьем просящихся в дом, он провел гостей в гостиную. Микеланджело представил им своих друзей, флорентийских изгнанников — писателя Донато Джаннотти и своего секретаря Луиджи дель Риччо, который, как тихо пояснил Вазари, готовит издание стихов мастера. Вскоре к собравшейся компании присоединился молодой статный мужчина по имени Томмазо деи Кавальери, которого мастер представил как архитектора, помогающего ему в оформлении площади на Капитолии.
В просторной комнате посредине стояли широкий дубовый стол и простые деревянные стулья и скамьи. В дальнем углу возвышалась скульптурная группа «Оплакивание Христа». Тот же Вазари успел поведать Тициану, что мастер предназначил ее для собственного надгробия. Затем он обратил его внимание на яркие эскизы костюма швейцарских гвардейцев, выполненные Микеланджело по просьбе папы Юлия II. В верхние помещения дома вела каменная лестница, над которой висел большой рисунок, изображающий призрак смерти с гробом на плечах. А под самим рисунком рукою мастера было начертано трехстишие:
Вы, ослепленные мирской тщетой,
Отдавшие ей разум, плоть и душу.
Всем встреча уготована со мной!
К высокому потолку был прикреплен на цепочке тяжелый бронзовый светильник, другой на треножнике стоял в углу рядом со скульптурой. На белых оштукатуренных стенах было развешано несколько рисунков. В камине потрескивали поленья, подбрасываемые расторопным Урбино. Иной мебели, зеркал или ковров в комнате не было. Оглядевшись, Тициан не мог не почувствовать некоторой неловкости и смущения при виде той спартанской простоты, в которой жил и творил великий мастер. Как же так, а все эти разговоры о его баснословных гонорарах?
Хозяин дома пригласил всех к столу, а издалека послышался звон колоколов, возвестивший о наступлении нового, 1546 года. Началось веселое праздничное застолье с обязательным на столе в ночь на Сан-Сильвестро блюдом — запеченной свиной ногой zampone с чечевицей, запиваемой тосканским кьянти. В комнате разлилось тепло, по стенам заплясали тени и воцарилось общее веселье. Один тост следовал за другим. Кто-то поднял бокал за окончание великого творения в Сикстине. Микеланджело, дабы развеселить собравшихся, рассказал, как его земляк Аретино усиленно набивался в соавторы, предлагая собственное видение «Страшного суда», и опубликовал несколько хвалебных статей, превозносивших мастера до небес. Не дождавшись ответа и тем более никакого подарка за свои писания, он через Челлини передал, что вынужден предпринять более действенные меры, и затеял травлю, объявив сикстинскую фреску «осквернением главного алтаря Христовой церкви» — а ведь с фреской писатель-памфлетист был знаком только по гравюре Энеа Вико. Зато с подачи наглого щелкопера голову подняли местные мракобесы во главе с кардиналом Караффой. Опустив голову, Тициан молча слушал; ему, видимо, было стыдно и досадно за своего зарвавшегося друга.