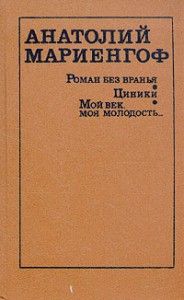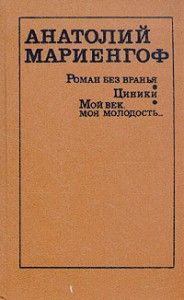Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
…Такая незадача, что хоть прямо со встречи опять уезжай в Туркменистан.
(Хотя сделать скидку на то, что Зелинский на тот момент Луговского не любил, считая предателем конструктивизма, и испытывал что-то вроде злорадства, — стоит. К тому же если «Сапоги» читать вслух — на 20 минут поэмы не хватит. Но в целом Зелинский, конечно, написал что-то похожее на правду.)
Обидно ещё и то, что следом просят читать Багрицкого — он пытается сбежать, потом нехотя, задыхаясь от астмы, читает «Человек из предместья» — и срывает аплодисменты.
В эти минуты Луговской, что называется, поплыл — так бывает, когда совершаешь один неудачный поступок и всякий следующий шаг выставляет тебя во всё более неприглядном свете.
Снова разлили по бокалам, писатель Малышкин изъявил желание чокнуться со Сталиным, писатель Павленко, который на прошлой писательской встрече, подогретый вином, трижды облобызался с вождём, теперь подшутил над Малышкиным: «Это плагиат!» Все захохотали, и Луговской, видимо, решил под шумок исправить своё положение, объявив громовым голосом:
— Давайте выпьем за здоровье товарища Сталина!
Но тут влез уже изрядно поднабравшийся писатель Никифоров:
— Да надоело уже это! Да сколько можно пить за его здоровье! Ему и самому надоело это слышать!
— Правильно, товарищ Никифоров! — поддержал его Сталин.
Зелинский, правда, отметил, что вождь при этом посмотрел на Никифорова «иронически и недобро».
А на Луговского вообще не глянул.
Выпили за что-то другое, после чего Сталин произнёс длинную, продуманную речь про партийных и беспартийных, которым всегда найдётся работа по душе в Советской стране, чем подкупил писательские сердца, и кто-то, но уже не Луговской, во второй раз предложил:
— Выпьем за товарища Сталина!
И все, надо ж тебе, вдохновенно поддержали этот тост.
Следующий тост поднял Фадеев — «за самого скромного из писателей — за Шолохова!» — и все с удовольствием пьют за Шолохова, к искреннему смущению великого донца.
Сталин, с удовольствием и показательно выпив за Шолохова, произносит речь про инженеров человеческих душ — и снова поднимает бокал за Шолохова. Везёт же кому-то.
Затевается, насколько возможно в такой обстановке, серьёзный разговор о диалектике и материализме, звучат вопросы.
— Можно быть хорошим художником и не быть диалектиком-материалистом, — отвечает Сталин. — Были такие художники. Шекспир, например. Мне кажется, что если кто-нибудь овладеет, как следует, марксизмом или диалектическим материализмом, он стихи не станет писать.
Луговскому не молчится, и он в очередной раз пытается проявить себя.
— А разве не может быть хороший поэт диалектиком? — спрашивает он.
Сталин, наконец, его замечает и по-отечески ещё раз объясняет: может-может, но сумеет ли он после этого писать так же хорошо? Никто не должен забивать голову художнику тезисами. Он должен просто правдиво показывать жизнь.
После этого, видимо, Луговской вновь почувствовал себя живым. Когда затеялись петь — Луговской запел сначала вместе со всеми, а дальше мастерски выступал соло. Тут-то, наконец, сорвал аплодисменты и всеобщий восторг.
Расстались вожди и писатели в благодушном настроении.
Горький, обнимая Сталина, пустил слезу, смутился.
Что там было с Луговским, мы не знаем, но по крайней мере в Туркменистан он на этот раз не уехал.
В качестве послесловия к этой истории придётся сказать, что писатель Георгий Константинович Никифоров, сорвавший тост Луговского за Сталина, будет расстрелян спустя шесть лет, в 1938 году.
Было бы нелепо предполагать, что его убили за эту выходку. Но вот так совпало.
Критика Авербаха, предложившего на этой встрече Луговскому читать стихи, — расстреляют тоже.
УДАЧНЕЙШИЙ В МИРЕ ЧЕЛОВЕК, МОВЕТОН И НЕВРАСТЕНИК
С новой женой — Сусанной Михайловной Черновой — Луговской познакомился на радио, где работал в 1931 году. Он будет звать её Сузи.
Распишутся второпях, праздновать свадьбу не станут.
Отношения их насколько страстные, настолько и странные. Едва начался роман — Луговской уезжает с Фадеевым в Уфу. Не столько прочь от Сусанны — сколько затем, чтобы решить: с Тамарой всё, с Тамарой больше не будет ничего, та, прежняя его жизнь надорвалась — и теперь надо переждать, чтоб зажило.
Когда возвращается, они так и не селятся вместе — Луговской живёт с матерью на Тверской, Сусанна — в Палашевском переулке.
Луговской ходит туда в гости, иногда с Фадеевым — хозяйка играет им на пианино, занимающее половину комнаты; другую половину занимает тахта, Володя и Саша лежат на тахте и пьют глинтвейн, сваренный очаровательной Сусанной.
Фадеев описывал её так: «Белокура, стройна, инфантильна». Нетрудно в такое существо влюбиться поэту.
Но и обманывать такое существо тоже, наверное, нетрудно.
После того как первая (или, вернее, уже вторая) семья развалена, многое позволяется с куда большей лёгкостью.
Помимо малых увлечений у Луговского вскоре возникает очередной серьёзный роман на стороне — с красавицей Ириной Соломоновной Голубкиной.
Сестре Татьяне он пишет в те дни: «Жизнь хороша. Правда состоит из ряда лжи».
Красивый, безответственный, добрый, сентиментальный, избалованный двухметровый мужчина-подросток — его хватает на многое и ещё остаётся.
Он сходится с Михаилом Голодным и Павлом Антокольским. Но особенно крепка его приязнь в те годы с Тихоновым и Фадеевым — дружба эта, судя по их письмам той поры, чистая, почти мальчишеская, в самом лучшем смысле — советская.
Тихонов пишет Луговскому в одном из писем: «Ты вообще, чудак, не понимаешь одного: что ты удачнейший в мире человек. Удача идёт впереди и сзади тебя. Удача идёт к тебе, как военная форма, простая и всё же изумительная».
А вот Фадеев: «С каким-то особым хорошим чувством подумал о тебе — о том, что ты существуешь на свете и что ты — мой друг… Ты стал очень необходим мне, милый старый медвежатник, и я рад наедине со своей совестью сказать тебе эти наивные, но правдивые и большие слова… Ты доставишь мне большое удовольствие своим видом — видом мужественного неврастеника, моветона и убийцы».
Луговской хорошо, по-гусарски, выпивает — и поит всех на свои деньги.
Один раз, правда, случился забавный казус. У него была тётка, целая генерал-губернаторша. Как только советская власть укрепилась, она быстро сообразила что к чему, обменяла свой генеральский дом на квартиру в Староконюшенском, заселила сёстрами, а сама уехала в деревню: тихо живу, развожу коз, никаких генералов и губернаторов знать не знаю.