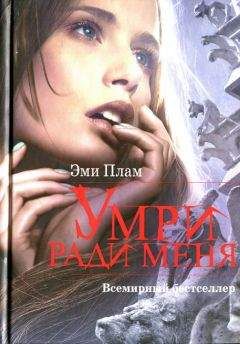Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
Я проснулся, как всегда, от солнечных лучей, бивших с Базарной улицы в щели ставен, день был прекрасен, но это не могло рассеять моего отвращения к Ксеньке, которое, как это ни странно, я испытываю до сих пор, хотя ее уже, наверное, давно нет на белом свете.
Однажды летом мы жили над Днестром; вокруг были холмы — каменистые предгорья Карпат, — поросшие ползучими травами, низкорослой полынью, бессмертниками — иммортелями — с их лиловыми слюдяными, как бы вылинявшими кладбищенскими цветами. В некоторых местах чернели следы цыганских костров, вокруг которых сухая трава была прожжена угольками, и я подбирал эти угольки, вызывавшие в моем воображении картины цыганского табора, ночевавшего здесь: телеги с парусиновыми халабудами, шатры, цыганок в длинных цветных юбках и цыган с кудлатыми бородами, темно-синими, как ежевика. А так как было широко распространено мнение, что цыгане крадут детей, то, засыпая, я крепко держал руку мамы и заплетающимся языком просил хорошенько меня стеречь и не отдавать цыганам.
На приднестровском склоне, куда дачники ходили любоваться закатом, был сложен очаг: плоский известняковый камень, по бокам торчком два других известняковых камня, а сзади в виде спинки четвертый камень — довольно высокая узкая плита со слюдяными следами маленьких степных улиток и блестками задымленного кварца. Этот очаг мама назвала троном. Отсюда открывался особенно красивый вид на закат, пламеневший над седой от полыни каменистой степью, где в розовой от солнца сухой траве вдруг проползал уж или, стоя над своей норкой, как столбик, посвистывал суслик, маленький, симпатичный, повернувшись спиной к предзакатному степному ветру. Отсюда виднелся противоположный берег Днестра — глиняные обрывы с круглыми черными дырами, откуда вылетали стрижи и кружились над пенистой быстриной Днестра, подмывавшей крутые его берега.
…Когда солнце наконец садилось и спустя некоторое время на небе выступало несколько первых звездочек, мы любовались роскошным зрелищем пароходика, который в это время всегда проходил мимо нас вниз по Днестру, шумя колесами и пуская из огнедышащей трубы целый фейерверк золотого дождя.
Пароходик огибал небольшой остров посередине реки, на котором — я знал — находилось садоводство какого-то немца, куда мы однажды ездили в лодке покупать луковицы гиацинтов, и нашу лодку качало на волнах, поднятых пароходом, и пароход удалялся во тьму звездной ночи, а мама мечтательно провожала его глазами, говоря:
— Какая прелесть пароход!
И я повторял за ней, не без труда произнося:
— Кука прелесть пуруход…
Из чего можно заключить, что мне было в ту пору не более трех лет.
Впечатление от огнедышащего пароходика каким-то образом было связано с событием, происшедшим до или вскоре после моего рождения.
Речь шла о катастрофе на Черном море вблизи Одессы, когда ночью столкнулись два парохода и погибло много людей. Эта катастрофа с человеческими жертвами в течение нескольких лет была темой разговоров, а так как один из пароходов назывался «Колумбия», то до сих пор это слово вызывает во мне тягостное чувство.
Всюду обсуждались обстоятельства суда над виновниками катастрофы. Дело оказалось крайне запутанным, и суд долго не мог доискаться причины происшествия.
В связи с этим мне запомнилось произносимое взрослыми имя Дорошевича, писавшего тогда в «Одесском листке» фельетоны об этом трагическом случае, о суде над капитанами двух погибших пароходов.
Было допрошено множество свидетелей-очевидцев, в том числе один грек, произнесший с сильным греческим акцентом следующие легендарные слова, объяснившие все дело:
«Сли вапёры без фонури, пассазиры потонули».
По-русски это значило: шли пароходы без фонарей, пассажиры потонули. Слово «пароходы» грек-очевидец произнес на французский лад «вапёр», то есть пароход, а во множественном числе выходило вапёры.
Итак:
«Сли вапёры без фонори, пассазиры потонули».
«Фонори» значило, конечно, фонари.
Это стало чем-то вроде веселой поговорки, которую часто при мне произносили взрослые.
Впоследствии в моем представлении грек-свидетель соединился с другим греком — кондитером Дымбой из чеховской «Свадьбы»…
Живя над Днестром, я впервые увидел много разных интересных вещей: например, аиста на камышовой крыше молдаванской мазанки, которую мы наняли на лето. Аист стоял рядом со своим большим, небрежно сложенным сучьев гнездом, в котором сидела на яйцах жена аиста — аистиха, а сам аист стоял на одной ноге, а другую прижал к животу, охраняя аистиху. Время от времени аист улетал и приносил в своем длинном клюве еду — маленького ужа или зеленую лягушечку с четырьмя растопыренными лапками.
Аист умел щелкать клювом, и это щелканье напоминало мне резкие деревянные звуки колотушки ночного сторожа, которые я когда-то слышал ночью у бабушки в Екатеринославе.
Папа научился весьма ловко щелкать языком, подражая аисту, и часто, желая позабавить меня и маму, становился против аистиного гнезда, закладывал руки за ремешок своего пояса и, задрав бороду, звонко, чеканно-отчетливо щелкал языком, вызывая аиста на разговор.
Аист начинал отвечать папе, и таким образом они долго переговаривались, а мы с мамой хохотали, и мама сквозь слезы говорила папе:
— Перестань, Пьер, ты нас уморишь. Ты ведешь себя совсем как мальчишка.
Мама называла папу на французский лад Пьером; я думаю, этот «Пьер» пошел у них от «Войны и мира», книги, которая в нашей семье считалась священной.
…На всю жизнь запомнились мне молдаване в сыромятных постолах, меховых жилетах и высоких бараньих шапках, которые они носили, несмотря на летнюю жару…
В Карпатах шли дожди, таяли снега, и тогда Днестр вдруг темнел, раздувался, выходил из берегов, так что каменная дамба против нашей хатки уходила под воду и поверх нее с головокружительной быстротой неслись длинные волны, с которых ветер срывал куски серой пены, покрывавшей весь берег, прибрежные кусты, набивался в камыши, на три четверти затопленные бунтующей водой с черными воронками смертельно опасных водоворотов.
В эти дни в Днестре часто тонули люди, и я со страхом смотрел с галерейки нашей мазанки на зловещие тучи и на массы карусельно несущейся воды.
Через несколько дней дожди в Карпатах проходили и вода в Днестре падала — иногда даже ниже прежнего уровня, — дамба снова появлялась из-под воды, а на песчаных отмелях ходили аисты, выклевывая из полуоткрытых речных ракушек неприятного черного цвета жирных моллюсков.
Я подходил к отмели, покрытой ракушками, и любовался их видом, их дышащими створками, которые то открывались, то закрывались, словно им не хватало воздуха. Меня удивляло, что они живые, что они дышат, что они как бы высовывают языки.
![Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]](/uploads/posts/books/210189/210189.jpg)