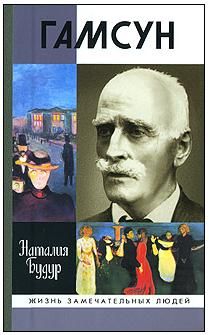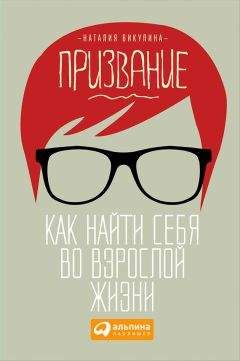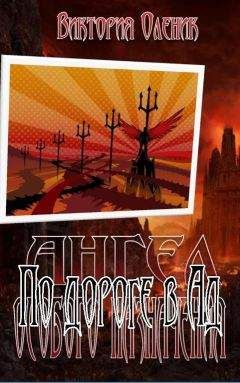Наталия Будур - Гамсун. Мистерия жизни
В больнице, хоть сам писатель никогда и не жаловался знакомым ни тогда, ни после, к нему относились плохо. Вот что написано в книге «По заросшим тропинкам»:
«В определенные часы мне приносят еду. Одна из трех сестричек ставит на стол поднос, поворачивается на каблуках и уходит. „Большое спасибо!“ — кричу я ей в спину. Но три медсестры не меняют своей тактики. Да и трудно им, наверное, подняться на холм, не расплескав кофе и суп. Я не знаю. Но поднос всегда залит. Так мне и надо, я это заслужил. Вначале, когда я только стал тут жить, я пытался объяснить им, что никого не убил, ничего не украл, не поджег дом, но это не произвело на них впечатления, им было совершенно все равно. Теперь я ничего больше не хочу им объяснять, да говорить тут не о чем. Подумаешь, пролитые суп и кофе, это пережить можно. Но вот я выуживаю из лужи на подносе письмо, оно вскрыто и вновь запечатано, полиция переслала мне его в таком виде. Может, это вырезка из шведской газеты. Может, какая-нибудь милая датская актриса шлет мне привет. Выудив письмо из лужи, я сушу его на солнце. Ну и что. Жаль лишь трех медсестер, ведь они такие молодые и красивые и так дурно воспитаны».
Но тут же Гамсун говорит, что люди относятся к нему по-разному: кто и разговаривать с ним не хочет, а кто-то старается помочь, чем может:
«Некая милая дама с Явы переслала мне через Голландию ящик сигар, они с мужем читали некоторые из моих книг, пишет она, спасибо вам большое. Она захотела сделать приятное человеку, живущему так далеко от нее, благослови ее Господь! Люди не забывают старика. Но в один прекрасный день сигары закончатся, и что мне делать? Тогда я брошу курить, просто брошу курить, вот так! Я уже трижды бросал, каждый раз — ровно на год, день в день. Итак, решено, я проявлю силу воли — и брошу курить. Отлично. Но ведь я все равно примусь за старое, к чему же тогда все усилия? Итак, решено, я проявлю силу воли — и примусь за старое.
Я вовсе не собираюсь скромничать и делать вид, что не знаю своих способностей».
2 сентября Гамсуна переводят в дом для престарелых в Ланнвике, поскольку в больнице нужны места для прибывающих больных полиомиелитом.
Дом престарелых считался вполне комфортабельным жилищем для стариков, и Гамсуну было там вовсе не так уж плохо.
Он отвечает на вопросы следователей, которые изредка наезжают к нему, а в оставшееся время читает, гуляет, раскладывает пасьянс и ведет что-то типа дневника, из которого и вырастет его последняя книга:
«Когда я отправляюсь гулять, то стараюсь походить подольше, чтобы потом не в чем было себя упрекнуть. Я делаю это ради ночного спокойствия, ради сна, который я заслужил. Сон лучше еды, даже сравнивать нечего. О, сон — это нечто совершенно особенное, им нельзя накормить голову, как желудок — едой, уж поверьте. Но сон — это и некое безумие: во сне я обнаруживаю в кармане какие-то деньги, которые никогда не терял, но которые безуспешно разыскивал. Во сне я вырываюсь из рук здоровенного моряка, которого хочу убить, а он в отместку пытается искромсать меня садовыми ножницами. Да, сон — чудесное переплетение выдумки, жизни и чуда.
Но и еда нужна, а как же иначе.
У меня нет распорядка дня: когда мне захочется, я беру свою палку и иду гулять. Я не слишком-то и пользуюсь палкой, она мне скорее заменяет собаку, не более того. Многие называют мою палку тростью, прогулочной тростью. „Вам подать трость?“ — спрашивали меня, бывало, в отелях. Но, по-моему, это звучит слишком высокопарно, и я всегда называю палку палкой. Она сделана в форме посоха, у нее резиновый наконечник внизу, но, к сожалению, она в свое время треснула, и теперь у нее внизу некрасивая стальная скрепка. Зато на ней имеются деления на сантиметры и миллиметры, так что, когда понадобится, я вполне смогу обойтись собственными силами.
Я здороваюсь с детьми, которых встречаю по дороге, некоторые из мальчишек слышали, видно, о моей глухоте, и развлекаются, подходя ко мне сзади почти вплотную и что-то выкрикивая. Я здороваюсь и со взрослыми, если вижу, что они доброжелательны, ну а если они отворачиваются и в плохом настроении, я спокойно прохожу мимо. Но здороваюсь я охотно, этого никто отрицать не может, даже более чем охотно. Так уж меня учили в детстве, тогда говорили, что воспитанные люди всегда здороваются, с тех пор это во мне и сидит».
Суд переносится с 22 сентября на 23 ноября. Власти не знали, как поступить с Гамсуном, и просто тянули время.
Обвинения ему были предъявлены в ведении нацистской пропаганды и членстве в национал-социалистической партии.
13 октября генеральный прокурор обращается к психиатру Габриэлю Лангфельдту с просьбой дать заключение о психическом состоянии обвиняемого и его возможностях нести ответственность за содеянное.
15 октября Гамсуна переводят в клинику профессора в Осло.
* * *Личность доктора Лангфельдта волнует всех без исключения исследователей творчества Гамсуна. Ему отводят роль Злодея, воплощенного доктора Зло. И он действительно им был.
Он подверг психоанализу не только самого писателя, но и его супругу, а затем предал гласности их признания, нарушив тем самым врачебную тайну.
До сих пор не найден ответ, почему он так сделал.
Мария Гамсун вспоминала уже в самом конце жизни: «Но ходить по земле было все труднее, и наконец я сделала отчаянную попытку смягчить свою боль. Я написала профессору в психиатрическую клинику. Для меня уже было утешением просто написать письмо, выговориться. Однако Сесилия считала, что его надо отправить.
Профессор и прежде получал письма, но не от меня, а от людей, хотевших помочь мне. Они так и не помогли, не дали ответа, который мог бы прояснить хоть что-то для меня.
Я привожу здесь это письмо:
„Копенгаген, 17. 04. 1949.
Господин профессор!
С тех пор, как я в августе вышла из тюрьмы, я ежедневно собираюсь написать вам. Мне очень хочется вас спросить, почему вы так со мной поступили. Было ли это совершено с какими-то добрыми намерениями, или ради того, чтобы разрушить мою дальнейшую жизнь, или это, откровенно говоря, просто необдуманный поступок? Будьте добры, ответьте мне, мне нужно выяснить этот вопрос…“
Профессор сразу же ответил. Он писал, что вел себя честно, что он не несет ответственности за то, каким образом позднее были использованы мои показания. Профессор писал также, что, по его мнению, мне не в чем его упрекнуть, раз уж мои отношения с мужем не могли стать иными, даже если и были бы предъявлены эти мои показания (имеется в виду: попали на глаза Кнуту). Он ссылался на то, что мой муж простился со мной навсегда при нашей последней встрече.