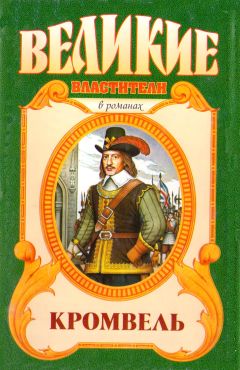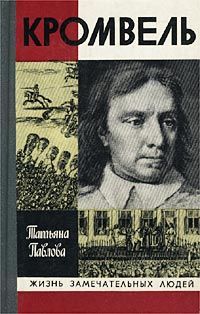Иван Стаднюк - Исповедь сталиниста
— Ленка, где мои зубы?! Куда они могли подеваться? — Оказалось, что Бориса, крепко вчера подвыпившего, ночью стошнило, и он не заметил, как выронил изо рта зубной протез.
И вдруг слышим испуганный голос Лены:
— Тату, вон сучка грызет под тыном какую-то кость! Может, то ваши зубы?!
Алексеев, Гончар и я грохнули хохотом, а Яков сорвался с постели, будто ему плеснули туда кипятком.
— Это я должен посмотреть! — не сказал, а как-то застонал он, давясь от смеха, и выскочил в сени. До нас вновь донесся голос Бориса:
— Отдай, чтоб ты подохла!.. Отдай зубы! — Выкрики его стали отдаляться.
В комнату вернулся Яков и притворно-трагическим голосом сообщил:
— Украла собачка Борисовы зубы и побежала в лес продавать их… Как думаете, догонит ее Борис?
Лес был рядом — примыкал к огороду.
Шло время, а Борис все не возвращался. Лена и ее муж Николай уговорили нас садиться за стол завтракать без главного хозяина. Мы уже заканчивали трапезу, как в хату зашел весь взмокший и распаренный Борис.
— Холера, а не собачонка! — стал рассказывать он. — Думала, что я с ней играю… Я к ней, а она от меня!.. Отбежит подальше, бросит мои зубы на землю и виляет хвостом… Я подойду, а она хвать челюсть и драпать!.. Все нервы вымотала. Ног под собой не чую… Еле поймал, заразу! — И Борис, вытерев протез рукавом рубахи, сунул его в рот.
— Что ты наделал! — крикнул ему Яков. — Там же микробы! Взбесишься!
— А я их сейчас водярой! — сев за стол, Борис налил граненый стаканчик водки и одним залпом выпил.
…Потом гуляли по лесу. Я с гордостью показывал моим гостям ту его часть, где густо возвышались могучие ели, выросшие из шишек, посаженных лет тридцать назад нами, учениками начальной сельской школы; их привез откуда-то учитель Зискин Ефим Моисеевич. Затем пошли на противоположную опушку смотреть другое чудо — акациевый лес. К сожалению, акациям цвести было еще рано, и я рассказал, как это выглядит, когда лучи солнца пронизывают белый шатер из гроздей-цветов. В лучах они видятся восково-желтоватыми. А воздух переполняется густым, сладковатым запахом, от которого кружится голова. И в ветвях стоит неумолчный пчелиный гуд, да такой, что человеческого голоса при нем не слышно…
— Хочу увидеть это своими глазами! — взволнованно сказал Олесь Терентьевич. — Давайте приедем сюда, когда зацветет акация.
Но так и не собрались до сих пор.
Стареем…
* * *Читатель вправе спросить: ну, побывали писатели в украинском селе, посмотрели его жизнь, повеселились. Что тут особенного?.. Верно, ничего особенного, но только на первый взгляд. Ведь никто из пишущих не знает, когда именно в закрома его души, в глубины сердца роняются зерна, которым суждено дать ростки. Да и никто преднамеренно не собирает этих зерен, понимая, что, скажем, для написания повести или романа недостаточно одного «посева». Нужна прожитая жизнь, независимо от ее протяженности. Но для толчка к написанию книги иногда достаточно случая, особой ситуации, неожиданного взрыва чувств.
Однажды я, Михаил Алексеев и Владимир Солоухин сидели в ресторане «Арагви», отмечая публикацию второй книги романа Алексеева «Вишневый омут». Скажу откровенно, что у меня по-особому пристрастное отношение к прозе Михаила Николаевича. Она воспринимается мной как весьма яркая, талантливая, наполненная движением жизни. Я убежден, что тот же «Вишневый омут» — одно из самых заметных явлений советской прозы конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Охват исторических событий, сложность и трагичность человеческих судеб, бесхитростная философская наполненность, сливающаяся с взволнованной поэтичностью, — все это позволяет сравнить роман с лучшими произведениями классиков, писавших в предреволюционной России.
Во второй книге «Вишневого омута», где развертываются и события тридцатых годов, Михаил Алексеев, то ли боясь нарушить ритм повествования, то ли полагая, что еще не наступило время, весьма осторожно прикасается к драматичным сложностям, сквозь которые мучительно шла тогда советская деревня. Но со временем, как бы спохватившись, он во всю силу своего таланта развернет эти сложности в повести «Хлеб — имя существительное». Но только потом — в очередной книге, которой еще предстояло родиться. И я откровенно, ссылаясь на судьбу его родной Саратовщины, может, без должной деликатности, упрекнул его в этом при Солоухине.
Алексеева уязвили мои слова, и он взорвался:
— А почему же ты сам не пишешь о голоде, расстрелах твоих родичей и земляков?! Почему тратишь время на комедийные сюжеты для кино? Я же знаю, что перенесла в тридцатые и сороковые твоя Кордышивка!..
От сердитой взволнованности глаза Михаила Николаевича побелели, губы пересохли, руки подрагивали.
Его волнение передалось и мне. Ворохнулось сердце, пронизанное внезапной болью. Передо мной тоже вдруг встал вопрос: «Почему действительно не написать мне о том, что видел, пережил, перечувствовал?!» А тут еще Владимир Солоухин бросил какое-то колкое, ранящее слово в мой адрес. И я закипел той страстью, которая неудержимо тянет к письменному столу.
— Напишу! — неожиданно для самого себя твердо пообещал я, будто впервые оглянувшись в прошлое и почему-то обозлившись на самого себя.
Догадываюсь, что, возможно, именно в то самое время и у Алексеева родилось желание засесть за свой «Хлеб — имя существительное».
16Отцвела весна 1959 года.
На «Беларусьфильме» готовились к съемкам кинокартины «Человек не сдается». Чтоб не мчаться в Минск по каждому вызову режиссера Иосифа Шульмана, писавшего режиссерский сценарий, я уехал туда на все лето с семьей, сняв комнату в Ждановичах на берегу Минского моря, в доме железнодорожника Шинкевича. И засел за роман. Писал, как песню пел, — с упоением, с радостью и горестью, воскрешая в себе свое детство, жизнь родного села, назвав его Кохановкой (от украинского слова «кохання», что по-русски значит «любовь»). За письменным столом часто вспоминал Алексеева и Закруткина. Такие знакомые, близкие, ничем особенным не отличавшиеся, как мне казалось, от меня. А пишут они размашисто, смело, по-простому, не боясь неожиданных сравнений и метафор, смело вторгаются в человеческую психологию, в интимные взаимоотношения людей… Чем же я хуже их? Почему тоже не могу писать свободно, раскованно, будто творить исповедь? И еще была свежа в памяти весьма похвальная рецензия в «Литературной газете» (1.XI.1958 года) Виталия Закруткина на сборник моих повестей и рассказов «Люди с оружием». В этом сборнике впервые была напечатана и повесть «Человек не сдается», явившаяся потом основой для написания киносценария. Я часто вчитывался в эту рецензию, называвшуюся «Живая, светлая книга», вникал в размышления Закруткина о моей прозе. Мне было важно углубленно понять, что именно понравилось крупному художнику в сборнике, какими мерками ценил он достоинства написанного. Я понимал, что Закруткин кое в чем завышал свои оценки, но в то же время как бы указывал мне путь дальнейших писательских исканий.