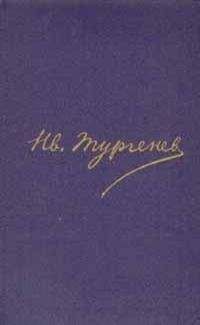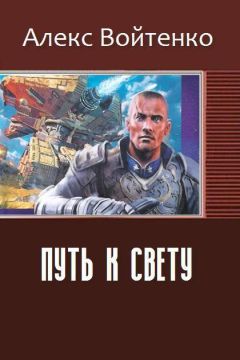Герберт Уэллс - Опыт автобиографии
Однако у него никогда не было ни времени, ни достаточной проницательности, чтобы понять это с полной отчетливостью. Впрочем, еще задолго до того как Великая война встряхнула разум Европы и заставила принять новую систему ценностей, он попытался заполнить прорехи, которые остались в его образовании после Хенли-хауса и тому подобных порождений эпохи. Он трогательно верил, что где-то, за пределами его мира, живет уйма умных людей, обладающих большими знаниями и более интересными мыслями. Он не представлял себе, как широк путь, по которому Мировое государство двигалось и движется к самореализации, и как медленно оно ступает по этому пути. Он не имел ни малейшего понятия о том, как запутаны при всей их показной упорядоченности наши экономические, социальные и образовательные построения, поскольку, в отличие от меня, никогда не занимался этими предметами. Но он ощущал зыбкость мира, его окружающего, и, как мог, делал неуверенные шаги для того, чтобы внести в него элемент устойчивости и конструктивности. Некоторое время он отдавал полосы Норману Энджелу{141} и другим авторам, обсуждавшим проблемы борьбы за мир, а после моих «Предвидений» и «Современной Утопии» очень хотел собрать моих последователей. Я его в чем-то подтолкнул, но в чем-то и разочаровал. Я не желал, чтоб меня «организовывали», и не нуждался в том, чтоб меня торопили. Его же опыт подсказывал, что надо каждую вещь хорошенько разрекламировать и предложить премию — и тогда получишь желаемое. А потом надо кидаться в погоню за чем-то новым. Если вы желаете достичь всеобщего мира, найти средство для излечения раковых опухолей или туберкулеза, создать самолет, который мог бы облететь весь шар земной, надо только поднять вокруг всего этого шум, предложить премию, и тогда умные люди, которые всем этим занимаются, примутся за дело и, совсем как он некогда поднял «Дейли миррор», добьются должного результата. Он хотел разрешить экономические загадки задолго до того, как был поставлен диагноз, и проделать это с присущей ему энергией. Я потом еще упомяну свои статьи о «рабочих волнениях», написанные для него в этот период.
Мировая война и последовавший за ней мир явились для него колоссальным испытанием. Нам всем это тоже был урок, но что касается его, то он благодаря им поднялся на новую ступень, потеряв при этом ориентиры. По-настоящему глубокий анализ процессов, происходивших в уме Нортклифа, его честолюбия, его привязанностей и предметов нелюбви, его главных мотиваций невозможен, но если говорить о конкретном времени, то его личность — это яркий исторический пример, освещающий нашу действительность. Его можно обрисовать как типичный случай мучительных переходов от слепой веры в Провидение, подразумевавшей характерную для человеческого мышления XIX века веру в благую, при всех наших ошибках и дурных деяниях, направленность общего хода жизни, к неожиданному для нас открытию, что людям надо объединиться и восстать против холодного безразличия, безжалостного правосудия, против, если угодно, самой природы, которая определяет наше сегодняшнее отношение к миру. Попытка в результате перенесенного язвенного эндокардита начать вести себя по-взрослому после сорока лет принесшего такой успех ребячества и подкосила здоровье Нортклифа, и убила его. Повергнутый в панику катастрофой Великой войны и ее ощущаемыми доныне ужасными последствиями, закрутившийся до головокружения в вихре руководящих постов и связанной с ними ответственности, не имеющий за собой поддержки традиции и никак не подготовленный философией, разгромленный в неловких стычках с Ллойдом Джорджем, лишенный возможности достойно участвовать в мирном урегулировании и так неожиданно выбитый из седла, Нортклиф повредился в рассудке, почти как Вудро Вильсон{142}. Он не выдержал напряжения, возраставшего с ростом его возможностей.
Я собираюсь еще поговорить о нем, когда поведу речь о том, как мой ум, образчик английского ума в целом, и английское сознание, частью которого он является, прошли через мельницу Великой войны, но после этого короткого экскурса в будущее позвольте мне вернуться в настоящее, в плохо оборудованную частную школу в Килберне, где все началось, — в маленькую школу, где Милн и его учителя, полные самых лучших намерений, не учили ни истории, ни экономике, не говорили ни слова о долге человека перед обществом и откуда они выпускали детей в сгущавшийся мрак современной цивилизации, словно то было соревнование за приз, в котором «черная и самая кропотливая работа» была «волшебной палочкой», открывавшей все двери.
Мы только сейчас начинаем подозревать, что образование должно включать в себя намного больше.
5. Университетский заочный колледж (1890–1893 гг.)
Насколько удается припомнить, в 1889 году мои попытки «писать» практически выдохлись. Надежда заработать на жизнь литературным трудом испарилась, и мне начало казаться, что единственная дорога, открытая для меня, — в учительство. В этом деле перспективы мои тоже не были блестящими, поскольку я упорно не желал исповедовать христианство, но самоуверенности во мне тоже поубавилось, и я согласен был и на самую скромную роль вопреки своим способностям. Милн породил у меня интерес к педагогике, и я решил, что, обзаведясь учительским дипломом и получив степень в Лондонском университете, я смогу, несмотря на свои атеистические убеждения, найти работу, которая позволила бы мне жениться. А я хотел жениться, я жаждал этого, и моя жизнь в близости к кузине мучила и унижала меня в степени, ей совершенно непонятной. Я сгорал от желания, она же была существом холодным и рациональным. Любой риск пугал ее. Ей казалось абсолютно очевидным, что я сперва должен устроиться на хорошее постоянное место, приобрести возможность содержать семью, а потом уже ждать вознаграждения своим чувствам. Это и были личные причины, заставившие меня сдать в июле 1889 года экзамены, которые принесли мне всего лишь второе место по зоологии; в конце года я получил степень лиценциата Колледжа наставников.
Когда речь шла об Академии Морли, я уже сказал слово-другое о Колледже наставников. Требования там были не слишком определенными, и его дипломы старались получить главным образом учителя, не имевшие университетских дипломов. Колледж наставников выдавал темы работ по целому ряду предметов, но позволял соискателям сдавать экзамены не один за другим, а в любое время и в любой очередности, и балл обычно был невысок. Я сдал все положенные предметы в один заход и, поскольку по большинству дисциплин мне выставили восемьдесят процентов возможных оценок, получил награды по теории и практике педагогики (десять фунтов), математике (пять фунтов) и естествознанию (пять фунтов). Это было полезной добавкой к бюджету, но главная польза от моего налета на этот колледж оказалась в том, что я набрался сведений по истории и практике педагогики, начаткам психологии (находившейся тогда в зачаточном состоянии) и логике. Все эти предметы меня очень интересовали, и, даже при том, что я занимался ими поверхностно, хотя и на положенном уровне, они меня просветили и подтолкнули мою мысль еще в нескольких направлениях. Я собирался в дальнейшем заняться психологией и вопросами морали и вместе с зоологией и геологией сдавать по ним экзамены на степень в Лондонском университете, но обнаружил, что ботаника на тот период была более выгодна, и от первоначальной мысли отказался.