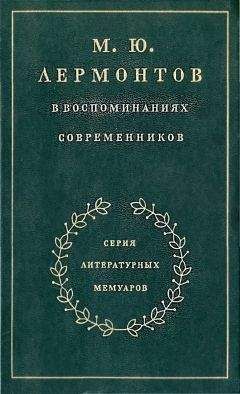Николай Коняев - Николай Рубцов
Все это так, и все же, когда Д. пытается изобразить Рубцова этаким вологодским Отелло, надо разобраться... Безусловно, многое тут выдумано самой Д... Безусловно и то, что Д. сама разжигала в Рубцове ревность, зачастую не понимая, что делает, сама заводила его на скандал...
И в воспоминаниях, и на допросах Д. всюду твердила, что Рубцов беспричинно ревновал и ревность эта оскорбляла ее, поскольку она не шибко-то и изменяла Рубцову с другими мужчинами... Правда, в стихах:
Когда-нибудь моя душа
Да скинет цепи постоянства!
Не нужно будет усмирять
Ее капризы и порывы.
Лишь изменяться, изменять
Свободно, дерзко, прихотливо!
она пишет о другом, но это не так уж и важно...
Ведь когда Рубцов срывался, обличая Д., речь шла не столько о плотских изменах, сколько о неверности духовной...
Рубцов не соответствовал шестидесятническим идеалам Д., и она, собираясь стать женой Рубцова, все равно продолжала предавать его. Ужимочками, улыбочками, репликами как бы отстранялась от того, что Рубцову было дороже всего.
«Целые ночи Рубцов сидел истуканом на стуле и говорил, говорил, говорил... От напряжения у меня разламывалась голова (Д. болела гриппом. — Н. К.), путались мысли. Эти дни и ночи остались у меня в памяти, как сплошной горячечный бред. Иногда я просила его:
— Коля, прошу тебя — иди спать. Ты, как ванька-встанька, тебя никак не уложить!
— Люда, послушай, что я тебе скажу...
И все начиналось снова. Это были страстные речи о том, что болело и ныло: о Родине, народе, смысле жизни, о человеческой судьбе. Казалось, открылись старые раны и они кровоточили. Никогда в жизни я не встречала человека так болезненно-страстно заинтересованного судьбою России и русского народа. Он не пекся ни о чем личном, был бескорыстен и безупречно честен. Я отлично понимала, насколько он выше и крупнее каждого из того огромного легиона называющих себя поэтами, кто личные интересы, свое собственное благополучие ставит превыше всего. Рубцов не выписывал ни газет, ни журналов, у него не было телевизора, он редко ходил в кино, но он знал главное. Его думы были крупнее и глубже того потока поверхностной информации, пропитанной духом бодрячества и наивного оптимизма. Рубцов знал, что он живет в грозный и сложный век, на тревожной планете, размеры которой щемяще невелики, если взглянуть на нее из космоса...
Я знала, что он поэт огромной лирической мощи, что имя его вслед за Есениным много скажет сердцу русского человека, но я отлично понимала и другое: Рубцов погибает от алкоголя. Это отзывалось во мне такой страшной мукой, такой безысходностью, так подавляло и пригибало меня к земле, что мне казалось, будто я несу непосильную физическую тяжесть и однажды не выдержу. Я хотела справиться с ним сама, металась, искала выход и кончалось тем, что во время его очередного психоза убегала, буквально уносила ноги. Да, он был опасен, взрывчат, в нем развилась боязнь людей, подозрительность к ним, он стал страдать манией преследования. Он был болен! А мне хотелось верить в то, что он здоров...»
Мы специально выделили слова про тревожную планету, чтобы показать, что слышала Д. в разговорах Рубцова, что из его слов доходило до нее. На тревожной планете, размеры которой щемяще невелики, Рубцов никогда не бывал... Подобные абстрактные переживания Рубцова занимали меньше всего, потому что перед глазами его был распахнут Божий мир...
Объяснить это Д. было, видимо, невозможно.
Понимала ли Д., что делает?
Едва ли... Если бы понимала, не стала бы писать об этом в своих воспоминаниях... А может, потому и пишет, что понимает... Понимает, что именно за предательство Рубцова и поднимают ее нынешние демократические издания.
Рубцов все это, разумеется, понимал, а что не понимал, то прозревал, но объяснить — мы видели, как он любил разъяснять мотивы своих поступков! — не желал. А может быть, и пытался объяснить, но... не мог сделать этого, и оттого заводился еще сильнее.
Вот и в последнюю ночь, если верить воспоминаниям Д., она попыталась уложить Рубцова в постель, но Рубцов вскочил, натянул на себя одежду и сел к столу, где стояло недопитое вино. Он закурил, а горящую спичку, шутя, кинул в сторону Д.
Спичка, разумеется, погасла, не долетев, но Д. — она всегда неадекватно воспринимала поступки Рубцова — представила себе, что горящая спичка упала на нее, и ей стало так обидно, что она чуть не заплакала. Пытаясь убедить ее, что он пошутил, что спичка все равно бы погасла, Рубцов кинул еще одну.
«Я стояла как раз у кровати... Пока он бросал спички, я стояла не шевелясь, молча в упор смотрела на него, хотя внутри у меня все кипело... Потом не выдержала, оттолкнула его и вышла в прихожую».
Рубцов допил вино и швырнул стакан в стену над кроватью. Осколки стекла разлетелись по постели, по полу. Рубцов схватил гармошку, но скоро отшвырнул и ее. Словно неразумный ребенок, старающийся обратить на себя внимание и совершающий для этого все новые и новые безобразия, Рубцов ударил об пол свою любимую пластинку Вертинского...
«Я по-прежнему презрительно молчала. Он накалялся. Я с ненавистью (выделено мной. — Н. К.) смотрела на него... Я взяла совок и веник, подмела мусор, осколки стекла. Где-то в четвертом часу попыталась уложить его спать. Ничего не получилось... Нервное напряжение достигло своего апогея, и это вместе с чувством обреченности, безысходности. Я подумала — вот сегодня он уедет в Москву, и я покончу с собой. Пусть он раскается, пусть поплачет, почувствует себя виноватым.
И вдруг он, всю ночь глумившийся надо мной, сказал как ни в чем не бывало:
— Люда, давай ложиться спать. Иди ко мне».
Об этом нельзя писать...
Ясно, что Людмила Д. — не Дантес и даже не Мартынов. Она убила Рубцова. Потом прибрала в квартире, надела рубцовские валенки и отправилась в милицию. Во время допроса она то плакала, то смеялась. Ее судили. Она получила срок — восемь лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. Но еще когда шел процесс, когда выяснялись все детали и подробности того вечера, той страшной ночи, она, словно бы стряхнув с себя оцепенение, вдруг ясно поняла, что навсегда теперь будет только убийцей Рубцова, и все последующее наказание показалось ей несущественным по сравнению с этим, главным, и она, порою даже во вред себе, начала доказывать, что не могла не убить Рубцова...
Убийца...
И какая разница, что такой осознанной цели — убить Николая Рубцова — у нее не было и не могло быть... Я имею в виду не саму ночь убийства, а всю историю их знакомства.
Когда-то в ждановско-хрущевских учебниках литературы можно было прочитать, кто двигал рукой Дантеса, кто стоял за спиной Мартынова. Эти объяснения в силу примитивности своей вызывают отторжение у нормального человека. Как-то сразу вспоминаешь, что кроме различных особ, заинтересованных в устранении беспокойных и непокорных поэтов, и сами Пушкин и Лермонтов кое-что сделали, чтобы умереть так, как они умерли...