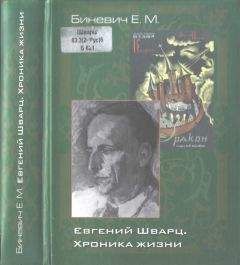Евгений Шварц - Позвонки минувших дней
Впервые в жизни подошел так близко — метров на двести — к историческим фигурам моего времени, и любознательность была только раздражена, будто пил и не допил. Я провел с ними несколько часов под одной крышей только для того, чтобы почувствовать, как далек тот мир от моего. И вместе с тем до чего близок! Каждое слово, сказанное там, в недрах Кремля, касалось каждого из нас. Но мне суждено было находиться далеко от произносящих эти слова. Я и радовался этому — чисто рассудочно, и испытывал вполне суетную, не достойную уважения, но ясную обиду. На другой день узнали мы, что несколько актеров — имена их остались неизвестными — оказались дома, сами того не заметив, в точности как описывал наш собеседник ночью у входа во дворец. Узнали мы, что вслед за ушедшими историческими лицами в недра дворца приглашены были самые знатные из участников Декады по заранее составленному списку. Присоединили к ним Середу после речи, произнесенной на грузинском языке, по именному указу. Как всегда, рассказывали об этом посещении много, но все больше восхищаясь, на манер Гефта. Гостям показали любимую картину хозяина «Веселые ребята», которая уж ни на каких экранах не шла, по возрасту. А ее все любили в Кремле. Экран задергивался занавесом. Хозяин после просмотра «Веселых ребят» спросил, не повышая голоса: «Посмотрим еще картину?» Занавес пополз, открывая экран. «Или поздно?» Занавес, подчиняясь, пополз обратно. «А впрочем, куда нам спешить?» И занавес снова послушался, как живой. Поезд возвращался в Ленинград, полный актерами и музыкантами. Все были оживлены на этот раз. Когда на другой день после моего приезда принесли газету, полную имен участников Декады — это и было причиной всеобщего оживления, все знали, возвращаясь, что список награжденных подписан, — меня в этом списке не оказалось, что я чувствовал, твердо знал заранее, по причинам, которые сам не мог бы объяснить. Возвращаюсь в середину лета сорокового года. Всегда мне казалось, что жизнь настоящая идет у человека только летом. Папа тяжело болел. Я все время ощущал безысходность его положения…
И вот пришел конец лету. Вера Ивановна, зная, в каком трудном положении папа, предложила его устроить в Куйбышевскую больницу. Приехала литфондовская машина. Папа вышел, откровенно, просто, тяжело болея. К этому времени припадки с кровохарканьем участились. Катюша ему вспрыскивала камфору, и он хвалил ее. Лучше любой сестры — быстро, смело. Папа уже не думал о нас, о жизни, о работе — болезнь так захватила его, что он ни о чем другом не в силах был думать. Я тогда еще раз понял простое явление: умирает не тот человек, который жил. И вот папа, сосредоточенный на одном, на своей болезни, — медленно, медленно выходит из дому, идет к машине. Я хочу усадить его рядом с шофером, где меньше качает. Он вдруг тяжело обижается. Ему сквозь мрак болезни представляется, как видно, что это так же обидно, как в его время сесть на козлы. Прерывающимся от сдерживаемых слез голосом он жалуется: «Больного человека… Как это можно». Я поскорее усаживаю его на заднее сиденье машины. И он быстро, по — детски, успокаивается и говорит: «Вот это другое дело». По дороге — так было и когда мы возвращались из Луги и ехали на дачу — какие- то силы будто сами собой просыпаются в нем, точнее, собираются остатки сил и помогают ему перенести дорогу благополучно. Грубость приемного покоя. Точнее, казенное безразличие, превращающееся в грубость возле человеческого страдания. Я в городе. Начинается осень 40–го года. Я читаю Акимову 1–й акт «Дракона». Он принимает его холодновато — мы еще в ссоре. Точнее, он еще не пережил московского недовольства от неуспеха первого представления, от спора с директором из‑за билета, от того, что жаловался я на Гарина, выпущенного неготовым. А, по впечатлительности своей, он не скоро успокаивался, глубоко переживал обиду. Тогда я звоню Козинцеву — он в это время с успехом работал и в театре — и приезжаю к нему. День еще теплый — балкон открыт. Точнее, это не балкон, а дверь с решеткой внизу. Полки книг до потолка, вся обстановка, теперь мне столь знакомая.
Прелестный пес, длинный, коротконогий, мохнатый, серобелого цвета. Он работал в цирке, и у него во рту разорвалась петарда прежде, чем он успел положить ее куда следует. С тех пор отказался пес работать на арене, и Козинцев купил его. Дома показывал пес фокусы с охотой. Открывал двери и, выходя, закрывал их за собой. Ложился в чемодан и закрывал себя крышкой. Козинцев, печально — доброжелательный, стройный, как и в нынешнее время, но необыкновенно моложавый, совсем юноша. Ему пьеса очень понравилась, отчего я повеселел. Пришла Магарилл, красивая, очень отделанная, совсем как произведение искусства. И весь их дом показался мне еще более привлекательным. Все казалось мне понятным, кроме содружества с Траубергом, которого не принимала моя душа с его речами, уверенностью, круглым лицом и вытаращенными холодными глазами. Впрочем, Трауберга в этот день не было у них. Дом оставался подобранным, сдержанным. Я все начинал и не мог продолжить второе действие «Дракона».
Мы вместе с Любашевским в просторном министерском кабинете Храпченко. Комитет по делам искусств где‑то высоко, во втором или третьем этаже. Адреса не вспомнить. Во всяком случае, он не там, где во время войны. Не на Дмитровке. Во всяком случае, я так вижу сегодня. Может быть, на площади Ногина. Запорожская башка Храпченко. Улыбаясь и не глядя на меня, он заявляет: «Дракон», во всяком случае сейчас, пойти не может.
А по поводу пьесы Любашевского говорит подробнее. О «Драконе» он говорит как бы в пространство. Ему самому странно, что приходится возражать против пьесы антифашистской. Даже смешно. Поэтому он ограничивается одной фразой. Я не читал пьесы Любашевского. Но Храпченко возражает не по сюжету и не по частностям, и на меня веет тем самым дворцовым дыханием, с которым познакомился я так недавно. Я как будто слышу музыку, табель о рангах подымает невидимый штандарт, и далеко — далеко в тумане проходит хозяин, подобный божеству. «Такое ли хорошее свойство скромность? — спрашивает Храпченко. — Определяет ли оно советского человека? Прочтите “Парень из нашего города” Симонова. Там совсем другие черты…» Я ухожу из кабинета с перепутанными на столичный лад чувствами. Впрочем, совещание проходит тихо, никто меня не обижает. Напротив, я выступаю с успехом. Живем мы в гостинице «Москва», обедаем в «Национале». Нервы напряжены. Я много пью. Живем мы в одном номере с Любашевским. Однажды, после обеда, оба мы уснули. И вдруг я вижу, что один угол комнаты нашей переполнен чудовищами, голыми дьяволами, мужского и женского пола, вполне человекоподобными. Я вскакиваю. Самый маленький из дьяволов, старик, отделяется от толпы, бросается ко мне и беззубыми деснами кусает за колено — по своему росту. Я отбрасываю его. Тогда он присасывается к грудям дьяволицы, висящим чуть не до полу. Насосавшись, подрастает, бежит ко мне. Я усилием воли просыпаюсь, но вижу, что угол комнаты переполнен все теми же голыми чудовищами.