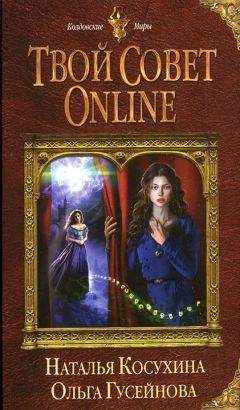Алексей Карпов - Андрей Боголюбский
Киев был взят 12 марта, в среду второй недели Великого поста[124]. «И поможе Бог и Святая Богородица и отня и дедня молитва князю Мстиславу Андреевичу с братьею своею, и взята Кыев, егоже не было никогда же», — с видимой гордостью записывал суздальский летописец. «Дедня молитва» — это молитва к Богу давно умершего князя Юрия Долгорукого, деда князя Мстислава Андреевича. В древней Руси считали, что небесное заступничество умерших предков имеет особую силу и Бог прислушивается к ней куда скорее и охотнее, чем к молитвам живущих. (Иногда в этом видят отголоски древнего, ещё языческого по своему происхождению почитания Рода и родичей — но преломлённого в новом — уже христианском — духе{258}.) Но летописец упоминает и об «отней» молитве, то есть о молитве к Богу здравствующего князя Андрея Юрьевича, отца Мстислава. Получается, что и его молитва обладает такой же исключительной силой и Бог также прислушивается к ней с особым вниманием. А вместе с тем получается, что и он, Андрей, — пусть и находящийся в далёком Владимире или Боголюбове — принимал участие в сокрушении ненавистного ему стольного города Руси, незримо присутствуя при его разгроме.
Случалось и прежде, что Киев бывал захвачен князьями после победоносных сражений у стен города — например, в 1146 году отцом Мстислава Изяславом Мстиславичем или в феврале 1161-го Изяславом Давыдовичем. Но в результате прямого штурма Киевская крепость и в самом деле была завоёвана впервые.
Судьба взятого «на щит» города оказалась поистине трагической. Богатейший город Руси был отдан князьями на разграбление войску на три дня[125]. Так, как будто это был чужой город, захваченный иноплеменниками, чужеземцами, а не русский город, не русская столица, взятая русскими же войсками. Причём грабили всех и всё, не щадя ни церквей, ни монастырей, ни домов простых горожан. Добычей становились даже священные предметы, оклады книг и икон, священнические одежды — особенно если они были расшиты золотом или жемчугом. «…И весь Кыев пограбиша, и церкви, и манастыре за 3 дни, и иконы поимаша, и книгы, и ризы», — записывал суздальский летописец. Киевский же его собрат, автор соответствующей части Ипатьевской летописи, был более конкретен, воссоздавая ужасающую картину происходящего:
«И грабиша… весь град: Подолье, и Гору (княжескую крепость. — А. К.), и манастыри, и Софью (кафедральный храм Святой Софии. — А. К.), и Десятиньную Богородицю, и не бысть помилования никому же ни откуду же: церквам горящим, крестьяном убиваемом, другым вяжемым (то есть связываемым, уводимым в плен. — А. К.); жены ведоми быша в плен, разлучаеми нужею от мужий своих; младенци рыдаху, зряще материй своих. И взяша именья множьство, и церкви обнажиша иконами, и книгами, и ризами, и колоколы изнесоша… и вся святыни взята бысть». И было это делом рук не половцев, не даже «своих поганых», а таких же христиан, таких же православных русских людей, как и те киевляне и их жёны, которых убивали, насиловали, уводили в полон. Летописец особо отмечает это: «…изнесоша все смолняне, и суждалци, и черниговци, и Олгова дружина». Олег Святославич — единственный из князей, названный по имени в связи с описанием чудовищного разорения города. Наверное, его люди усердствовали больше остальных… Но и «поганым» — торкам, берендеям и половцам, если последних и в самом деле привёл с собой кто-то из князей, — тоже довелось покуражиться на славу. Судя по летописному рассказу, им достались окрестности Киева. Едва не был сожжён Печерский монастырь — колыбель русской святости, самая прославленная из всех русских обителей: «…Зажжен бысть и манастырь Печерьскый Святыя Богородица от поганых, но Бог молитвами Святыя Богородица съблюде и о[т] таковьы нужа». И далее: «И бысть в Киеве на всих человецех стенание, и туга, и скорбь неутешимая, и слезы непрестаньныя. Си же вся сдеяшася грех ради наших».
Едва ли можно думать, что Андрей, посылая сына в поход на Киев, наказывал ему непременно разорить и разграбить город, предать огню церкви и монастыри; что все те ужасы, которые описывают источники, были заранее согласованы с суздальским князем и санкционированы им. Такого, наверное, быть не могло. Скорее, мы имеем дело с ожесточением, которое охватило большинство тогдашних русских князей и которое стало следствием десятилетий постоянных кровавых междоусобиц. Да и суздальцы злодействовали в Киеве ничуть не больше, чем смоленские или черниговские ратники или вой из Дорогобужа или Вручего (даже в летописном рассказе они значатся на втором месте — после смолян). Но Андрей организовал этот поход, поставил во главе собственного сына. А потому всё, что творилось тогда в Киеве, прикрывалось его именем. И это страшное событие, напоминающее в изложении летописца ужасы будущего Батыева погрома Киева и других русских городов, навсегда чёрным пятном легло на репутацию суздальского князя. Строитель церквей и основатель монастырей, милостинник и нищелюбец, он предстаёт здесь человеком, по воле которого совершаются ужасные злодеяния, оскверняются храмы и разоряются святыни — пускай и не родные, суздальские и владимирские, а киевские, но всё равно русские, православные святыни — те самые, которым поклонялся сам Андрей Юрьевич, когда пребывал в Киеве в прежние годы.
Достойно отдельного разговора то, как было описано и объяснено взятие Киева в Суздальской летописи. Рассказав о жестоком разгроме города — но как о деле чуть ли не богоугодном и благочестивом («…Поможе Бог и Святая Богородица… князю Мстиславу Андреевичу с братьею своею…»), летописец разъяснил, чем, по его мнению, вызвано это несчастье. Оказывается, во всём были виноваты… сами киевляне, и особенно — митрополит-грек Константин, которого так не любил князь Андрей: «Се же здеяся за грехы их (киевлян. — А. К.), паче же за митрополичю неправду: в то бо время запретил бе (митрополит. — А. К.) Поликарпа игумена Печерьского про Господьскые праздникы, не веля ему ести мяса ни молока в среды и в пяткы в Господьскые праздьникы». Заодно припомнили «неправду» другого грека — черниговского епископа Антония, который во всём помогал митрополиту и «многажды браняшеть ести мяс» черниговского князя Святослава Всеволодовича, так что тот выгнал его из города. Антоний оказался в Киеве и потому тоже был объявлен виновником произошедшего. «Да внимаемы мы собе, кождо нас и не противится Божью закону» — этой сентенцией летописец заканчивает повествование о «киевском взятии». Такова, надо полагать, была официальная версия. Она, несомненно, устраивала князя Андрея Боголюбского, ибо служила оправданием за все злодеяния, совершённые его войском. Киевляне были наказаны не суздальцами, не ратью одиннадцати князей — но Божьей карой, обрушивающейся на всякого, кто противится «Божью закону»…