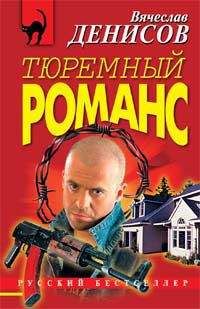Александр Шмаков - Каменный пояс, 1977
— Куда едем? — собравшись с силами, прошептал Цвиллинг.
— В станицу Павловскую, — соизволил снизойти офицер. Ему, видимо, просто надоело молчать. — По приказу господина атамана двадцать пять комиссариков развозим по станицам. Вас — в Павловскую.
Это было неожиданно и непонятно.
«К казакам. Для чего Дутову посылать большевика к казакам? — думал Цвиллинг. — Боится расстрелять открыто в своей столице? А в станице надеется вызвать самосуд?»
Цвиллинг знал, что силы атамана в губернском городе не так уж и велики. Всего около семи тысяч сабель и штыков. Солдатский гарнизон Оренбурга — около двадцати пяти тысяч человек — больше сочувствовал большевикам. Знал и то, что в Бузулуке чрезвычайный комиссар Кобозев стягивал красные войска. А Бузулук — это продовольствие для Оренбурга. Знал о всеобщей забастовке оренбургских рабочих в поддержку арестованных ранее большевиков.
«Да, Дутов — не дурак. Массовые расстрелы в такой ситуации ему не нужны. А где-нибудь, в отдаленной станице, все может «случиться». Тогда атамана и упрекнуть вроде бы не в чем…»
Цвиллинг стал чувствовать себя увереннее. Трезво оценив расстановку сил, он понял, что за жизнь свою еще можно бороться.
Десять лет назад, после неудачного экса, Цвиллингу был вынесен смертный приговор. А отсидел всего пять лет…
Цвиллинг напряг память. Что, собственно, он знает о Павловской? Вообще о казаках? Наверное, обыкновенная станица. Не слишком богатая. Война и по казачеству прошлась неласково. Вспомнился разговор с войсковым агрономом. Раньше казак без коня — позора не оберешься. Теперь же каждый восьмой — безлошадный. У каждой третьей семьи не хватает скота, чтобы обработать землю…
В станицу приехали вечером.
Комиссара поместили в заброшенную избенку невдалеке от станичного правления. Окна без стекол, заколочены досками. На полу — старый тюфяк. Закрывая дверь, часовой долго громыхал замком и запорами. Цвиллинг присел на тюфяк, потом прилег — и забылся. Разбудила песня. Три голоса, приближаясь, выводили:
— О чем, дева, плачешь?
О чем, дева, плачешь?
О чем, дева, плачешь?
О чем слезы льешь?
Песня подошла к домику. Смолкла. Веселый голос спросил:
— Кого стережешь, кум?
— Большевичка атаман прислал.
— А чего тебе не спать? Хочешь, мы его сейчас живо в Могилевскую губернию направим! — Казаки загоготали. — Давай ключ!
— Вам что, убьете да уйдете, а мне за арестованного ответ держать, — немного подумав, не согласился часовой.
— Как знаешь! Пущай еще немного поживет комиссарик!
И в три глотки рванули: «О чем, дева, плачешь?» — удаляясь от избы.
Нет, смерти Цвиллинг не боялся. Не хотелось глупой смерти. И он расслабился. Завернулся в тюфяк…
Наутро комиссар поднялся от шороха, непонятного повизгивания, хруста. Поднял голову и чуть не рассмеялся — в заколоченное окно ломилась станичная малышня. Они толкали друг друга, принижая к доскам, щурились и негромко, чтобы не рассердить часового, спорили. Вначале Цвиллинг не понял, о чем. Потом, напрягшись, полууслышал, полудогадался, как кто-то напуганным фальцетом убеждал:
— Да ты глянь ладом! Рог же это, рог!
Цвиллинг стянул с головы свою вязаную верблюжью шапку. Ребята оробело заойкали, завозились.
— Цыть отседова, чертенята! — шуганул их часовой.
А станица жила своей обычной жизнью. Погромыхивали подводы. Раскатисто мычала невдалеке корова. Пронзительный женский голос призывал где-то запропавшего Романа. Наметом проскакал верховой и резко, совсем близко, остановил коня.
«Наверное, приказ привез», — подумал комиссар. — Обо мне?
Цвиллинг попробовал ходить. С болью он свыкся уже, научился ее подавлять и ей не подчиняться. Но слабость… Его хватило только на несколько маленьких шажков. Сел на тюфяк.
— Спокойно, — сказал себе, — надо быть спокойным и беречь силы.
Он помнил ночной разговор…
Было, наверное, часов около десяти утра, когда у избенки послышались новые голоса.
— Отчиняй дверь! — командным басом приказал кто-то.
Захлопотали с замком.
Дверь, скрипя, отворилась.
— Выходи!
Цвиллинг вышел. После полутемной избы нешибкое ноябрьское солнце резануло по глазам, выжав слезу.
— Что, стыдно на людей смотреть?! — хохотнул один.
Перед избой стояли группой несколько казаков. Разнорослые, в большинстве седобородые, с рядами медалей на груди — станичные старики. Постояли, вглядываясь друг в друга. Тот, басистый, видимо, местный заводила, был коренаст, с лицом, побитым оспенной дробью. Он и начал разговор, обратясь к комиссару:
— Господа старики желают, значит, знать. Вот ты, к примеру, большевик. Чего ваши опять в Питере взбунтовались? Чего против народа пошли?
— И чем вас таким германец прельстил? — вставил другой скороговоркой.
«Вот и явились Шемяки с судом!» — сказал себе Цвиллинг. Он чувствовал, что стоять дольше не сможет.
— Что ж, поговорить можно. Только стоя какой разговор? Стоя только приговор выслушивают. Заходите в избу.
Комиссар твердо повернулся, дошагал до тюфяка. Сел. Отдышался. Вытер лоб шапкой.
Казаки растерянно замялись. Такого поворота они не ожидали. Рябой махнул рукой:
— Пошли, станишники, уважим комиссара напоследок, — и гоготнул.
Гомонливо, — кто, приткнувшись к неровности стены, кто, присев на корточки, — устроились.
Цвиллинг обвел глазами настороженные, а то и откровенно враждебные лица:
— Спрашиваете, отчего в Петрограде власть заново сменилась? А отчего власть вообще меняется? Ленин сказал — когда верхи не могут править по-старому, а народ жить по-старому не может.
Передохнул немного.
Казаки не перебивали.
— Как мы, простые люди, правителей оцениваем? Если мы сыты, обуты и нас не грабят начальники — то и хороша власть. Царь Россию до ручки довел. Два раза, невесть за что, русский народ на убой посылал. И в то же время в столице своей подданных не то, чтобы досыта накормить, самого малого предоставить не смог! Спекулянты в городах солдатских жен за булку хлеба покупали! Такой правитель народу, совершенно понятно, был не нужен. Народ его и скинул.
Пришли к власти временные правители. Чего от них люди ждали? А все того же — хлеба, мира, работы. И что же дали стране временные министры? Апрельскую ноту Милюкова, что Россия будет воевать до победного конца! И новые сотни тысяч убитых русских солдат после этого! А за что убитых? За землю, за волю, за лучшую долю? Нет, все за ту же глупость царя-батюшки, которую, как черт писаную торбу, тащили на себе министры и страшились ее сбросить.