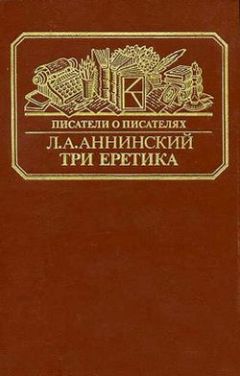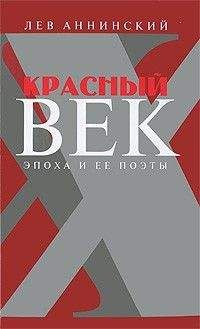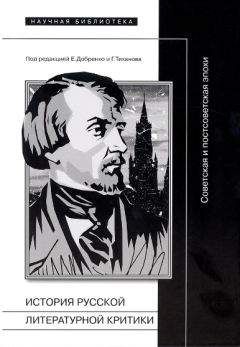Лев Аннинский - Три еретика
Мельников-Печерский работает густым наложением красок; и работает-то вроде бы голубыми тонами, но знает, что по черному грунту пишет, и непостижимым образом вы выносите из чтения его романа – это знание.
Оно-то и мучит. Переворачивает меня – этот переход от безудержного бунта к черному смирению. Душу кровавит мне – это наше почти неправдоподобное сочетание святости и изуверства, самопожертвования и самоистязания, ослепительной чистоты и бездонного мрака.
Да как же это возможно? – думаешь, читая. Что же это за душа такая, что сама себя так варварски согласна укрощать? Что это за судьба: волю, отвагу, гордыню, любовь – все задавить с такою медвежьей беспощадностью? Где таится неизбежность этого отчаянного самоподавления?
Давайте вернемся к живой Фленушке. Почему обречена? Почему знает, что будет несчастна? Жиденек духом Петя Самоквасов? С сильным – убежала бы, со слабым – не решается? Ну, так. Мужик наш снаружи крут, а внутри мягок; держится жизнь – бабами. Но Фленушка-то не поколебалась бы повести за собой и слабодушного! Нет, ей еще и другое мешает. Боится она – мать Манефу убить своей изменой. Правильно боится: это старуху и убьет.
А та что же? Зла разве желает своей дочери мать Манефа? Сама когда-то иночеством в себе жизнь удушила, знает же, каково это. И все-таки всем существом своим молит, склоняет Фленушку к постригу. Какие же убийственные основания надо иметь, чтобы класть дочь на эту плаху?
Есть основания. И серьезнейшие.
Манефа рассуждает так: в случае пострижения Фленушка быстро становится игуменьей, хозяйкой скита. Ее жизнь обеспечена. А без пострижения? «Белицей останешься, не ужиться тебе в обители. Востра ты у меня паче меры. Матери поедом тебя заедят… Не гляди, что теперь лебезят, в глаза тебе смотрят… Лукав мир, Фленушка…»
Вот. Это и есть последняя истина, исходя из которой принимает мать Манефа свои крутые решения. Люди слабы: злобны, ненадежны, коварны, подлы. С миром не справиться. Мир лукав. Этого не переменишь. Это – почва, почва плывущая, обманная. Как на ней укрепишься? Каменная тяжесть куколя, крючкотворная, усыпляющая монотонность обряда, изуверская скрупулезность смирения – это все попытки найти твердость среди всеобщей шаткости. Страшен мир – страшны меры, которыми он должен смирять себя. Иначе – гибель. Жизнь – это чарусы, вадьи, окна; сверху цветочки, а ступишь – дна нет. И Китеж-град уходит в бездну. Ощущение неустойчивого, коварного, смертельно опасного мира создается в эпопее Печерского не только логикой поведения действующих фигур, так или иначе пытающихся преодолеть всеобщую шаткость, но всею тональностью фонов, логикой лейтмотивов, игрой попутных штрихов.
Работники ноне подшиблись, лежебоки стали, вольный сделался народ, обленился. Все воруют, все плутуют и все боятся остаться в дураках. Грешат напропалую. Скопом каются, скопом грешат. Да и как плутом не быть, ведь самого оплетут. Где тут грех, где покаяние? Все смешано, все подменено. Воры слезливы, плуты богомольны. Ходит человек, ощупывая потайной карман: цело ли еще? И ведь чем ловчей плут, тем больше ему завидуют: зависть тяжелым безликим облаком висит над этой жизнью, зависть зоркого, все знающего, все видящего мира. От людей не скроешься. Попал в стаю – лай не лай, а хвостом виляй. И лает человек, и виляет хвостом, и на миру живет, а при том все таится, все молчком что-то протаскивает. Все по мурьям да по скрыням, и все концы хоронит, и все что-то пытается спрятать, и все готов к тому, что спрятать не удастся, – растопчут, разнесут все – ветром, общей качающейся массой, «всем миром».
С миром не сладить. Сквозным лейтмотивом идет у Печерского тема артели, тема общины. Человек вне артели бессилен, в артели он укрывается от своего бессилия. По внешности артель – галдеж и бестолочь, дурь и гонор, упование на жребий, коллективное суеверие; по сути все артель – обережение от обид человека впечатлительного и неустойчивого, боящегося коварства и обмана и потому предпочитающего диктатуру артели случайностям шатающегося мира. Старшой в артели, пока его не выбрали, – само покорство, сама кротость; он в начальники «не хочет», он «слаб», он ломается и отказывается (все – по ритуалу), но как только его выбрали, да хоть бы и слепым жребием выметнуло ему быть старшим, – уж с ходу зверем смотрит, пугает куражится. И все это терпят, и даже этого хотят; а иначе нельзя: ярмом артельным, круговой порукой только и можно смирить неуправляемую в людях гульбу.
Поведение человека в этой ситуации – тонкая смесь самоуничижения и высокомерия. Все виды показного смирения: мы-де сиволапые, мы сирые, мы темные, наше дело лесное, мы все с волками да медведями, мы и взяться-то ни за что не умеем. И все это – с почти нескрываемым юродством, в котором угадывается подавленная спесь, и все это при ежесекундной готовности схоронить концы.
«Спесь» – одно из главных определений той безудержной самовольной силы, которую, по Печерскому, жестоко смиряет в себе русский человек. Есть у него и другое определение этой силы, на мой взгляд, более правильное: удаль. Человек может строить расчеты, самого себя убеждать в выгоде того или иного дела, праведного или греховного, но в конце концов сильнее всех расчетов и соображений оказывается безотчетное веселие сердца: самобытный риск, молодецкий задор – удаль.
Зачем окрутили с ленивой Паранькой блудливого Василия Борисовича? Цель какая, смысл? Петя Самоквасов убеждает себя, что надо насолить московским праведникам из Рогожского согласа: они-де в наше захолустье уставщика прислали, а он тут окрутился. Но в этом желании больше чистого озорства, чем ревности по вере. И Фленушка, которая подговаривает Петра сварганить свадьбу, тоже не во всем себе признается. Она думает: если мне счастья не видать, так хоть другим устрою. Но она не додумывает, не формулирует то, что знает о ней автор. Раскуражиться охота Фленушке напоследок! Огонь-девка, угар-девка – знай наших! Так все участники похищения невесты – от хитрой Фленушки до простодушного Пети Самоквасова и от лихого ямщика, подрядившегося угнать невесту, до случайно затесавшегося сюда ронжинского парня, которому охота подраться да потешиться, – все в конце концов устраивают озорной спектакль не из тех или иных «соображений», а потому что над всеми «соображениями» маячит последнее: «Хохоту что будет, хохоту!»
Что ж получается? Истина равна обману, святость неотделима от шутовства: сдвоена реальность, двоится она, двудонная она, двужильная. Иной раз это и обманом не назовешь. Иной раз это просто рекорд сноровки и чудо конспирации. В конце XVIII столетия, – профессорски замечает П.И.Мельников в сноске, – за оскудением старопечатных книг, многие запрещенные раскольничьи тексты печатались в местечке Клинцы Черниговской губернии в тайных типографиях. Обозначалось же на этих книгах, будто печатаны они в Почаеве, тогда еще не принадлежавшем России…