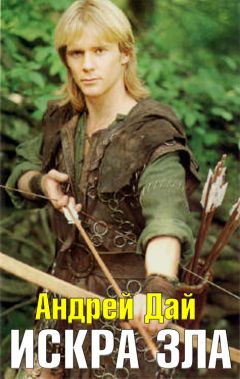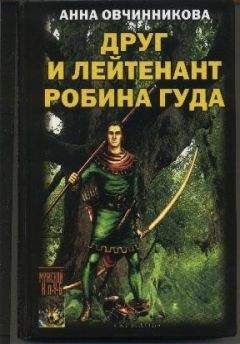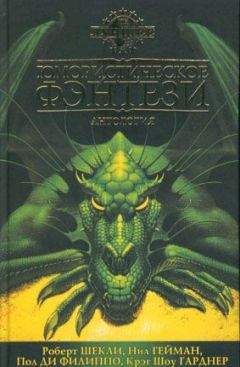Иван Киреевский - Том 3. Письма и дневники
Вот теперь и наши лекции в полном развале. Рожалин слушает Тирша и Шорна, брат — Шорна и Окена, и завтра начинает Шеллинг, которого станем слушать все трое. Брат решил наконец остаться здесь до июня, и я надеюсь, что он останется и до окончания семестра, то есть до августа.
Они были наконец у Шеллинга и приглашены на все его вечера, следовательно, будем являться туда все трое вместе. Брат был и у Окена, который также звал его на свои четверги. Вот вам наши университетские новости. О том, как и кто им больше понравился, какое впечатление произвел Мюнхен на них и делаемых им планах, они, вероятно, сами будут писать дальше, покуда мне, как старому мюнхняку и студенту, должно было сказать новости университетские.
13. Родным
1/13 июля 1830 года
Вчера опять за четырьмя профессорами и Соболевским не мог добраться до пера и должен был отложить до сегодня. В промежутках времени между прошедшим письмом и этим, так же как и всегда прежде, мы и здоровы и веселы все, таковы же и теперь. Главная перемена в продолжение этого времени состояла в присутствии Соболевского, который ни капли не переменился: тот же милый и благородный малый, какой был, но так же и во всем другом совершенно тот же. Он приехал сюда нарочно затем, чтобы видеться с нами, пробыл три недели и завтра поутру отправляется в Турин. Он рассказал нам множество интересных подробностей о Париже, который находит в совершенном спокойствии и о смутах которого вы беспокоитесь напрасно, и мы, как кажется, сладили совокупный съезд наших персон в Швейцарию, куда Соболевский обещает выписать Мицкевича, а может быть, и Шевырева и куда в таком случае, вероятно, и мы явимся, что, впрочем, так же, как и приезд выписываемых персон, еще не совершенно верно. Мы собирались было во время феерий, бывших около Троицына дня, сделать вылазку в Зальцбург или в горы, где были различные религиозно-драматические представления, но так как в первые три дня за мерзкою погодою не собрались, а феерии продолжались более 8 дней, то и отложили эту вылазку до другого времени. Соболевский говорит, что в конце осени будет, может статься, в Москве, и если так, то он привезет вам о нашем житье-бытье вести самые подробные; что касается до него самого, то он хотя и уверяет, будто бы переменился, но совершенно тот же, большую часть дня лежит на диване в халате и зычным голосом рассказывает про балы, вечеринки и хороший тон парижского света, а иногда мяучит по-кошачьи во все горло; так как над нами живет Буассере, знаменитый своими сочинениями о готической архитектуре, и громкое мяуканье ему должно быть слышно, то это приводит Рожалина в отчаяние. Сначала он нашел средство откупаться от крика бутылкою вина, но, наконец, и это помогать перестало, и Соболевский, угрожая ему, что закричит, забрал над ним неограниченную власть.
2/14 июля
Сегодня в шесть часов поутру Соболевский уехал в Турин, условившись, чтобы мы съехались с ним в Швейцарии, если ему удастся выписать туда же Мицкевича. Несмотря на то что я его люблю и за многое уважаю, мне, признаюсь вам, не жаль было, что он уехал.
Время наше идет по-прежнему, мы здоровы и веселы, слушаем профессоров, остальное время либо бываем дома, либо в хороший день (который, впрочем, бывает довольно редко) отправляемся в английский сад и изредка в театр, когда играет Эсслер. Вы требуете от меня статей для печати, но кроме всех других причин, как-то: недостатка навыка и пр. — право, некогда; извините меня, пожалуйста, пред Погодиным, что я не отвечал на его приписку к вашему письму, бывшую еще зимою, и скажите ему, что если я когда-нибудь напишу какую-нибудь интересную статью о Мюнхене (что, между нами будь сказано, весьма, весьма сомнительно), то пришлю к нему. Больше же всего вероятностей, что если либо брат, либо Рожалин не напишут что-нибудь о Мюнхене и сонме его философов, то русская публика еще долго о них читать не будет. Теперь, покуда, чтобы не опоздать, должен кончить, потому что слишком поздно принялся за начало, но если я в следующий раз не пришлю вам письма огромного и по грузу, и по обширности, то (как гласит мюнхенская клятва) шорт меня побери!!
14. Родным
23 июля / 4 августа 1830 года
Три дня тому назад мы сделали маленькую вылазку в Штарнберг, местечко в четырех часах езды от Мюнхена, лежащее у подножия гор, на берегу широкого и прекрасного озера Wurmsee. Мы отправились туда в шесть часов поутру и приехали назад в час ночи. Несмотря на то, что в продолжение дня мы от жару чуть не растаяли и что с нами немец был достаточно скучный, прелестные берега, огромное, светлое озеро, по которому мы ходили несколько часов, и величественные снежные горы, которых перламутровые вершины ярко рисовались на темном и белоснежном южном небе, свое действие сделали: мы все так пленились этими местами, что теперь, вероятно, пропадет в нас всякая тяжелость на подъеме, и мы чаще будем выезжать из однообразной и бедной равнины мюнхенской.
Недели через две начнутся ваканции, и тогда можно будет проникнуть далее в эти горы, которые перед нами белеются. Планов на осень у нас несколько; во всяком случае я думаю, что в Париж не попадем еще долго. Отчего мои планы переменились, пишете вы, и я хочу оставить Мюнхен? Об этом случае я в следующий раз буду писать подробнее, а теперь, пока в эссенции, скажу главные причины. Я думаю, что польза университета неисчислима, но учение университетское важно не как курс, а только как узнание точки, на которой находится наука теперь и методы преподавания людей великих в университетах европейских; следовательно, побыть в университете еще не значит пройти дорогу, а только запастись для дороги фонарем. А в этом отношении я уже Мюнхен знаю: я был здесь уже два семестра и слышал уже все гениальные головы. Если бы я был здесь и один, я, конечно, может быть, не так бы скоро отправился в Париж и, верно, не остался бы даже в Мюнхене, потому что мне здесь остаются теперь одни книги, которые можно иметь всегда, и даже в России; я поездил бы по другим немецким университетам (которые еще во всяком случае еще от меня не ушли) и, может быть, поехал бы на несколько времени в Италию, потому что я уверен, что один живой взгляд на Италию обрисует больше, нежели прочтение сотни умных фолиантов: книги везде, народы же и земли только на своих местах. Посмотрев на университеты немецкие и развалины итальянские, я поехал бы, по крайней мере, на год в Париж, потому что там призма, в которой сходятся все лучи европейской политики, и, не бывши в Париже, трудно понимать довольно новейшую историю. Таким образом, в чем же переменились мои планы? Только в том, что я решился ехать в Париж несколькими месяцами прежде, а в другие немецкие университеты (вероятно, берлинский и боннский) несколькими после; но прежде я не рассчитывал, что могу быть вместе с братом, а это чего-нибудь да стоит. Вы говорите, что не против моей поездки в Париж, жалеете, однако же, что брат переменил мои прежние планы, принадлежавшие мне самому. Отчего же вы, однако, так мало предполагаете во мне самостоятельности? Я, впрочем, не оставляю еще намерения провожать брата в Париж только потому, что уверен, что если бы вы лучше хотели, чтобы я остался долее в Германии, то сказали бы это и за ветреность побранили бы меня, потому что я один виноват в перемене своих планов.