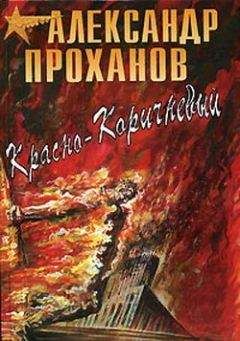Александр Авдеенко - Наказание без преступления
— Плохая привычка. Привычка тыловика. Она не к лицу фронтовику.
Говорит и улыбается. Доброжелательный, молодой, красивый капитан-здоровяк. Больше похож на веселого конферансье, заискивающего перед публикой, чем на грозного работника Смерша. И все-таки я был настороже. Не только для чаепития пригласил меня Журавлев, а для чего-то другого. Видимо, решил прощупать меня в дружеской беседе.
Не переставая улыбаться, он расстегнул планшетку, достал из нее оранжевый тончайший листок бумаги, положил на стол, бережно разгладил и спросил:
— Как вы думаете, что это такое?
Я пожал плечами. Сознаюсь, покривил душой. Я уже догадывался, какого рода документ оказался в руках уполномоченного. Снова, как в Киеве на Крещатике, когда улицу переходил расклейщик афиш, я почувствовал надвигающуюся беду.
Опасность часто невидима, не имеет ни цвета, ни запаха, но все-таки она материальна: наполняет душу мраком, давит на сердце. В данном случае опасность излучала оранжевая бумага, заполненная жирными типографскими строчками. Ни единой буквы не разглядел, но был уверен, что напечатана какая-то очередная клевета, направленная против меня. И тут, проклятая, настигла, чтобы смертельно поразить.
— Оказывается, ваши очерки, напечатанные в нашей дивизионной газете, читают не только по эту сторону фронта, но и по ту. Видимо, Геббельса и его борзописцев встревожила ваша творческая активность и было решено нанести по вас удар, — сказал Журавлев, согнав со своего лица улыбку. Он протянул мне оранжевую бумагу. — Это немецкая листовка, посвященная вам, товарищ лейтенант. Вчера над нашим расположением разбросаны с самолета сотни, а может, и тысячи таких листовок. Считаю своим долгом ознакомить вас с целенаправленным посланием фашистских провокаторов.
То ли потемнело в моих глазах, то ли искры посыпались, то ли ослеп. Держу листовку, смотрю на нее и ничего не вижу. Сплошная темнота. Видимо, нервная слепота внезапно поразила меня. Прошло значительное время, пока я смог видеть. Медленно, вникая в каждую строку, прочитал то, что Журавлев назвал посланием. Ловкая оперативная работа. Кратко и толково рассказано, что произошло со мной осенью сорокового года. Кончается листовка таким абзацем. «Вот так расправляется «гений всех времен и народов» даже с теми, кто боготворил его. Славные бойцы и командиры Сто тридцать первой дивизии! Каждого из вас рано или поздно ждет такая же участь! Штык — в землю, камарад! Переходи на сторону Великой Германии, которая встретит тебя с распростертыми объятиями. Пусть эта листовка служит тебе пропуском в мир справедливости и всякого благополучия. С нами бог и бессмертный фюрер Адольф Гитлер».
Ужасная минута. Потерянно молчу. Не знаю, что сказать. Огонь полыхает во рту, а душа и сердце леденеют.
Журавлев положил обе руки на мои плечи.
— Не убивайтесь, товарищ лейтенант. Вашей вины в этой затее фашистов нет. А эту бумаженцию можете оставить себе на память. Пригодится, когда после войны будете писать о фронтовых переживаниях.
Вот она, тайная коварная цель особиста — навязать мне листовку под благородным предлогом, а потом нагрянуть с обыском, обнаружить неопровержимую улику моей виновности перед государством, которая карается расстрелом.
Мне стало совершенно ясно все, о чем я только догадывался: с тех пор как Сталин обрушил на меня свой гнев, органы безопасности не спускают с меня глаз, собирают компромат. Если не находят, так выдумывают. Сколько еще лет или месяцев будут охотиться за мной? До самой смерти, наверное. По правде сказать, не думал я, что и на фронте, под пулями и снарядами фашистов буду числиться в тайном списке опасных государственных преступников.
Я швырнул на стол оранжевую листовку с такой стремительностью и с таким ужасом, будто она была гремучей змеей.
Вот и все, Любонька, что сейчас я способен тебе написать об этой чудотворной истории. Много в ней недосказанного, не до конца разгаданного. Но ты, Любонька, я уверен, постепенно, а может быть, и сразу разберешься что к чему.
Не знаю, как на тебя подействовало мое сообщение, но я не мог не рассказать тебе еще об одном душевном потрясении в моей жизни. Сколько их уже было! И сколько еще будет! Самое время вспомнить разговор протопопа Аввакума с женой во время их тяжких испытаний. «На меня, бедная, пеняет, говоря: «Долго ли мука сия, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна! До самой смерти». Она, вздохня, отвечает: «Добро, Петрович, ино еще побредем».
Побредем, Любонька, побредем и по кровавым дорогам войны, на которых немало добрых людей, таких, как Песочин. Добром, а не злом держится наш мир. И не везде, слава богу, высятся пьедесталы и Голгофы.
Ленинград, 7 февраля 1943 г.
Приступаю к письму после долгого раздумья. О чем тебе, любимая, сегодня написать? О том, чего еще нет, но что непременно будет? Все мои чувства, все помыслы там, где меня нет, но где скоро буду. Теперешняя моя жизнь кажется ненастоящей, временной. Ты улыбаешься: обычная, мол, для моего характера склонность к преувеличению. Нет!
…Сегодня утром плакал. От радости. В тот момент, когда мне сказали, что в Германии объявлен траур по случаю пленения армии Паулюса. Не помню более счастливого момента в жизни, чем вот этот. Траур в Германии!
Жду от тебя письма с отчетом о разговоре с Ортенбергом. Не тревожусь почему-то. Возможно, волнение другого характера тому причиной.
Ленинград, 8 февраля 1943 г.
Вчера долго бродил по Ленинграду. Разумеется, тебе хочется знать, как выглядит город. Он представлялся мне в гораздо худшем виде. Центр целехонький. Все разрушения восстановимы. И люди тут гораздо веселее, чем я думал. И дети есть. Видел детский сад в полном составе на прогулке. Кое-где ребята играют в снежки. Ходят трамваи. Работает электростанция, радио, телефон, театры, цирк, кино.
Конечно, еще многого я не видел. Да всего в письме и не опишешь.
Ложусь поздно — работаю. К уральской повести даже не притрагивался. Потихоньку делаю очерки для «Красной звезды». Пока написал один. «Дорога жизни — Ладога». Сегодня ночью буду отделывать.
Ах, Любонька, так хочется, чтобы вы с Сашей не бедствовали! Вы — самое дорогое в моей жизни — как же мне не беспокоиться! Жалко, что пока я могу беспокоиться только словесно. Ничего, потерпите!
Ленинград, 12 февраля 1943 г.
Сегодня узнал, что письма идут в Москву 20 дней. Очень огорчен. Получишь, стало быть, ты это письмо в марте. А в марте у меня будет совсем другая жизнь, другое настроение, и у тебя сложится неверное представление обо мне.