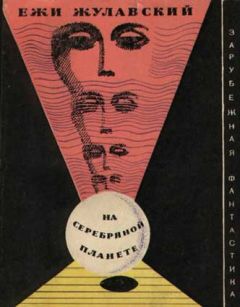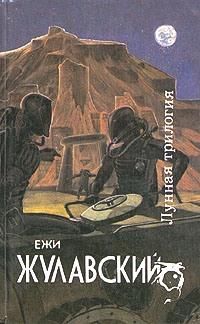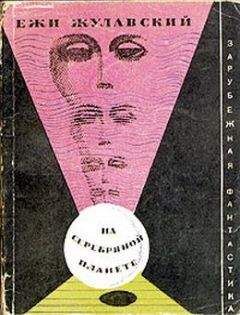Владимир Чернов - Искушения и искусители. Притчи о великих
Так евреи у Гроссмана стояли в очереди на расстрел. Очень по делу все здесь собрались. Ненужное поколение. Ни черта не свершившее. Я думаю, мы пришли не за свободой, мы пришли, чтобы нас здесь убили…
Но мы живы. Почему мы? Почему умерли те, другие, не хуже нас? Почему каждому свой достался век? Кто решил это за нас? Кто решил все за всю Россию? Ведь все у нас чужое: великий поэт наш — эфиоп, великий тиран — грузин, цари — все немцы, народ с тяжелым татаро-монгольским прошлым. А живем и считаем себя могучим этносом.
Россию объединяет только язык. Больше ничего. Язык общий.
В языке этом два слова главные. Оба — из трех букв. Первое пишут на заборах. Второе слово — Бог. В пространстве между этими двумя словами и живет загадочная русская душа.
Я — очевидец. Для чего я должен все видеть и помнить? Я не знаю. Может быть, для Бога; когда помру, я ему все расскажу.
Я опущу восторг, упоение любовью, успехом, молодостью, стихами, весенними лужами, все, что мы тоже пережили. Об этом расскажут Ему другие. Я о своем.
Не знаю только, понравится ли это Ему?
Рождество 1984 годаКак всякий истинный художник
Рисует истовейший дождик
Иль груды морд, что прут, горя,
В густом наваре января,
Так ночь усердно и шершаво
На стеклах вяжет зыбкий смысл,
В надбровьях гаснущую мысль,
Под сердцем зябнущую жабу.
Век умирает как звезда.
И проступает та черта,
Где совмещает нет и да
Глазниц орущих пустота.
Спят, погасив глаза квартиры,
Водою черной налиты.
Все сон. Спят мира командиры.
Кумиры спят. Усни и ты.
От двери цокают копытца.
Мохнатый кто-то. Вор или бес?
И вдруг обнюхал наши лица.
Зубами пискнул. И исчез…
Страна, где каждый день кого-то убивают. И каждую ночь. Малых сих и великих. Вот Талькова убили. Что-то он пел под гитару. Про Россию. Ну, убили. Пора бы привыкнуть.
Но рыдают толпы фанатов. Женщина звонит в редакцию по утрам: как жить, он ей снится каждую ночь? «Память» под предводительством пузатого человека в черной рубашке толпится у гроба. Господин Васильев, это политическое убийство? А ка-ак же!
Вот этот господин в черных очках, как говорят присутствующие, Талькова убил. Тоже толпится на кладбище. Он обнаружил, что Тальков его не уважает. Ну и убил.
Тальков пел себе про Россию, пил водку, во хмелю становился бешен. Говорят, когда господин в черных очках потребовал к себе уважения, Тальков тоже был бешен, говорят, он вообще всегда… Все-все-все. О мертвых только хорошее.
Много мертвых. Все больше их на корабле. Корабль мертвых. Поговорим о живых.
Страна, где, взяв друг друга за горло в заблеванном подъезде, спрашивают жарким шепотом, брызгая слюною в лицо: «Ты меня уважаешь?» Где никто никого никогда не уважал. Где никто никому не верит, где все друг на друга плевали, где одна тоска — чтоб уважали.
Где народы, преисполнившись титанического самоуважения, требуют отныне выговаривать: Таллинн, Башкортостан. Почему Англия ни от кого не требует называть себя Инглэнд, а англичан инглишменами? Почему ее не коробит, не выворачивает наизнанку от ненависти к народам, называющим ее согласно своим языкам и традициям?
Я уважаю Англию. Я не уважаю народ, который не уважает меня. Мой дом, мои привычки, мой язык.
Страна, где все хотят, чтобы их теперь называли господами. Господа из Санкт-Петербурга, господа из Екатеринбурга, вы уже стали добрей и умней? У вас переменились манеры? Из уст ваших перестала ползти словесная блевотина? Десятки лет мы сочиняли себе все новые изумительные имена. Нам мало?
Господин Васильев, а что, если прямо тут же, на кладбище, взять и потребовать от господ кыргызов впредь именовать нас русичами, например, а не будут, в морду?! Слабо?
Мы, опрокинутые в бездну самоуничижения. Бедные, угрюмые дураки. Корабль дураков, мчащийся на всех парусах, теряя оснастку, превращаясь в лохмотья, в дырявую тень.
И многих еще похороним, если не остановимся. Дураки, дураки…
А можно бы жить хорошо
Под этим танцующим снегом,
И сытым троллейбусным бегом
Свершать путешествий вершок…
Под этим танцующим снегом,
Укрывшим от выпавшей доли,
Уж боле — ни счастья, ни света,
Но вволю — покоя и воли.
И сытым троллейбусным бегом
Несутся застывшие люди…
Мир вашим случайным ночлегам,
Где снам остановки не будет.
Свершать путешествий вершок —
Какое больное блаженство!
Святое мужчинство и женство,
Растертое тьмой в порошок…
2
А можно бы жить хорошо
В одежде из рыбьего меха,
Из тихого говора, смеха…
Под этим танцующим снегом,
Под этим торжественным небом,
Где все уж готово к побегу.
Послышится Божий рожок…
Когда господин Мавроди вышел наконец из тюрьмы, родные и близкие стали думать, чем бы его утешить. В Думу выбрали. Не весел. В Думу не идет, ну ее, говорит, пошлите какого-нибудь отсидчика. Сидит у окошечка и вздыхает. «Батюшка, — плачут родные и охрана, — смотри, вон твои акционеры пришли, целая тыща, с плакатиками, смешные какие человечки, копошатся, кричат чего-то, вон упал один, затоптали… ну, взвеселись, радость наша!» Нет, нет и нет. Уберите, говорит, их, с души воротит. «Может, пристрелить кого? — предлагает охрана. — А то мы мигом! Все одним завистником меньше будет!» Только поморщился. «А то завалимся куда, — шепчет тайный советник, — оттянемся, а?» — «Куда это вы оттянетесь? — напряженным голосом спрашивает жена Лена. — Я вам завалюсь! Все дома есть. И утешаться здесь будете. Я вам завтра самых отборных в мире баб прямо сюда приведу. Ну, сколько их там, этих мисс, штук двадцать? Вот. И выберем здесь самую отборную. По телевизору покажем. Ты, Мавродьюшка, прямо дома и посмотришь. И никуда тебе не надо ходить. А мне давно пора себя показать. Сколько уже не показывала. Что мне, так и сгнить на кухне? Да я, между прочим, и сама их всех могу победить. Одной левой. Хочешь, у тебя жена будет „Королева мира — 94“? А-а, испугался? Тебе нельзя, акционеров боишься. Да ладно уж, мне это и самой неинтересно. Я, может, по профессии председатель жюри!»
И понеслось. Написали письма, пригласили всех знакомых из заграницы. Из Финляндии приехал знакомый дизайнер, из Австрии знакомый управляющий директор, из Италии знакомый адвокат, еще откуда-то знакомые психолог и хоккеист, все компетентные люди, специалисты по девушкам, ну и Махмуд Эсамбаев, естественно, без него просто неприлично. А человек безотказный. Это еще Черный Абдулла, бывало, вскрикнет: «Махмуд!» И уже сразу поджигают нефть.