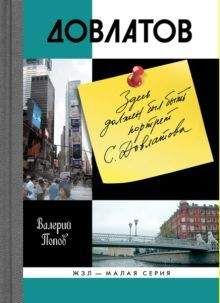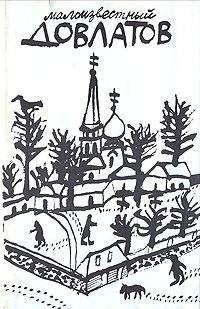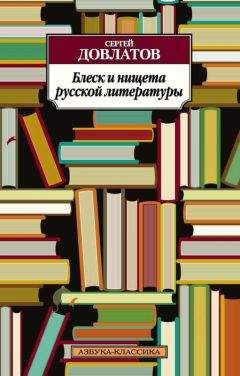Татьяна Щепкина-Куперник - "Дни моей жизни" и другие воспоминания
Вскоре после постановки «Сирано», в конце 90-х годов, помню, попала я как-то в один литературный дом в Москве. Общество было, что называется, избранное: писатели, адвокаты, артисты — все нарядные, оживленные, — правда, не было фраков и мундиров, как на петербургских вечерах, мужчины большею частью в черных сюртуках, некоторые щеголи в особенно длинных, по моде 30-х годов, дамы все в элегантных туалетах. Среди этого общества обратил на себя мое внимание необычный вид одного молодого человека: первое, что бросилось в глаза, была его рабочая блуза и высокие сапоги — обычная одежда мастеровых: будто пришел водопроводчик или слесарь что-нибудь чинить. Но нет, это не был случайно зашедший в комнаты рабочий: его свободное поведение, смелый взгляд — все показывало, что он здесь — гость. У него было некрасивое, но невольно обращавшее на себя внимание лицо: энергичный лоб, довольно длинные волосы, спадавшие вольной прядью на лоб, яркие глаза под суровыми бровями, и взгляд смелый, свободный и проницательный: взгляд значительного человека. Я продолжала его рассматривать, недоумевая, кто он такой и что здесь делает.
Любопытная подробность: в то время не разрешалось в русском платье бывать в общественных местах, как в театре, ресторане и т. п., и я помню нашумевшую историю, когда какого-то миллионера вывели из ресторана, потому что он был в поддевке из тончайшего сукна и в высоких сапогах, сшитых знаменитым Пироне. Поэтому немудрено, что я удивлялась, глядя на такого необычного посетителя. В это время я поймала и его взгляд на себе, и тут же хозяйка, разговаривавшая с ним очень любезно, двинулась ко мне, а он за нею: она познакомила нас, как это всегда бывало в таких случаях, пробормотав что-то вроде «позвольте вас познакомить»… какие-то невнятные слова, которые я называла «25, 26, 27…», какими принято было представлять друг другу незнакомых людей. Молодой человек крепко пожал руку, которую я ему протянула, и воскликнул:
— Черт вас возьми!..
Я испуганно взглянула на него, недоумевая, чем я вызвала такое обращение, но мое удивление заняло секунду: он уже продолжал, весело и добродушно улыбаясь из-под суровых бровей:
— Как вы здорово перевели «Сирано»! Очень уж хорошо звучит: я думаю, не хуже, чем по-французски.
— Что вы, — возразила я, все еще не зная, кто со мной говорит, — ведь Ростан такой версификатор, что с ним не сравниться русскому переводчику.
— Ну, для русского уха, может быть, ваш перевод и приятнее звучит. Особенно это место у вас хорошо, когда Сирано говорит о своем полке:
Мы все под полуденным солнцем
И с солнцем в крови рождены!
— Это солнце в крови — чертовски хорошо!
Я смешалась, улыбнулась — и не решилась ему сознаться, что у Ростана никакого «солнца в крови» нет, что это моя выдумка…
Он отошел от меня, а я спросила кого-то рядом:
— Кто этот молодой человек?
— Максим Горький. Разве вы не знаете его? — был ответ.
О, я ли его не знала: давно ли появились его первые рассказы, и точно повеяло свежим ветром в нашей литературе. Она не была тогда бедна, эта литература: еще был жив Толстой, жил и работал Чехов, писал Короленко, Мамин-Сибиряк… и многие другие, всходила целая плеяда талантливых поэтов, и, однако, появление Горького сразу было отмечено, и сразу он занял свое место, как настоящий пролетарский писатель. Я вспомнила его выражение, поразившее меня в рассказе «Мальва»: «Море смеялось». Этих двух слов было для меня достаточно, чтобы в свое время понять его талант, как иногда довольно одного слова, чтобы определить нравственную сущность человека.
Я сидела за ужином недалеко от Горького, глядела на него и невольно вспоминала того Ростана, о котором он с таким восхищением говорил. Я спрашивала себя: а понял ли бы Горького и оценил ли бы его так же высоко Ростан? Какие полярные противоположности! Изнеженный, женственный Ростан, похожий на силуэт с рисунков Гаварни, и этот молодой богатырь в своей рабочей блузе… Там — в начале карьеры — розы, Розмонда, изящный особняк, академия… Здесь — волжские грузчики, жизнь впроголодь, скитания… Там — поклонение Парижа, приемы, премьеры… Здесь — тюрьма, высылка, нелегальные приезды в Москву или Петербург…
Думала я о разнице судеб этих писателей — и тогда еще не могла предвидеть, какие итоги дадут эти две жизни.
Вскоре вслед за этим мне пришлось сотрудничать с Горьким в одной газете — любопытная газета «Северный курьер», просуществовавшая всего один год, и то при постоянных предупреждениях, запрещениях и волнениях. Газета эта была затеяна с мыслью объединить вокруг себя все левые элементы. К сотрудничеству привлечены были многие литераторы во главе с Горьким. Все они, невзирая на свои расхождения и разные платформы, обещали одно: «Биться против общего врага». Кроме Горького, привлекали внимание передовой части читателей Вересаев, Тан, Станюкович, Фруг, Овсянико-Куликовский и много других.
Своим девизом газета взяла: «Безумству храбрых поем мы песню». Правда, по тем временам она и была смелой. И Горький поместил там рассказ, который оканчивался строками, которых я никогда не забуду:
«Литература есть трибуна для всякого человека, имеющего в сердце горячее желание поведать людям о неустройстве жизни и о страданиях человеческих, и о том, что надо уважать человека, и о необходимости для всех людей: свободы, свободы и свободы».
Помню, в газете Тан поместил стихи, посвященные Горькому:
Там, где торг ведут свободный
И Россия и Сибирь,
Над рекою судоходной
Поселился богатырь.
Щеголял в цветной одежде,
Щеголял в мороз босым —
Назывался Стенькой прежде,
А теперь зовут Максим.
И повытчик и лабазник
Одинаковы в цене:
Верь, Максим, настанет праздник
И на нашей стороне.
Молодого опального богатыря полюбила чуткая молодежь и всячески старалась ему высказать свою любовь. Я помню, как мы со студентами устраивали концерт в честь М. Горького, — я прочла тогда с эстрады стихи, посвященные ему, и помню, как страстно приветствовали последнюю строфу, в которой я выражала уверенность, что Горького ждут и слава, и свобода.
В 1906 году по инициативе Горького возник «Нижегородский сборник» в пользу учителей Нижегородской губернии, этих подвижников и страстотерпцев тех лет. Сборник издан был товариществом «Знание». Душою его был Горький. Он дал туда пять своих вещей. Приняли в сборнике участие Белоусов, Куприн, Короленко, Телешев, Тан, П.Я. (Мельшин). Горький прислал мне теплое письмо с просьбой дать что-нибудь в сборник, что я и сделала с радостью, зная, что уж раз за сборник взялся Алексей Максимович, то деньги пойдут на дело. В одной из помещенных там вещей Горький говорит: «Да здравствуют сильные духом, мужественные люди, которые служат истине, справедливости, красоте. Мы их не знаем, потому что они горды и не требуют наград: мы не видим, как радостно они сжигают свои сердца». «Не жалей себя — это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя. Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные — изберут первую, мужественные и щедрые — вторую». Эти слова запали в сердце. И, конечно, жизнь Горького была одним сплошным горением. Как это было непохоже на Ростана, который говорит, что «жизнь надо жечь с двух концов»…