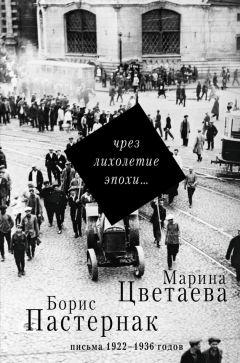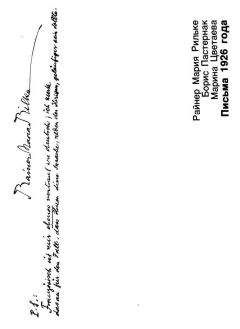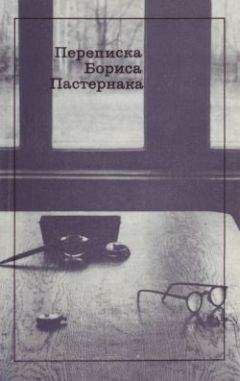Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - Пастернак Борис Леонидович
Продолжение
Там, где для тебя гор<ы> – история, для меня не существует и вопроса. Ряд вещей в моей жизни не значится. Например, история. Какая история Жанны д’Арк? Но ведь это же – эпос. А, кажется, есть! Для тебя – история, для меня – эпос. «Вскочить истории на плечи» (ты о Рильке), т. о. перебороть, превысить ее. Вскочить эпосу на плечи не скажешь: ВОЙТИ в эпос – как в поле ржи. Объясни же мне: когда есть эпос, – зачем и чем может быть в твоей жизни история. Почему такая забота о ней? Какое тебе, вечному, дело до века, в к<отором> ты рожден (соврем<енности>). «Историзм» – что́ это значит?
Письмо 107
<кон. августа 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
<Борис>! Каждая кассирша, каждая телефон<истка> счастливее меня, п.ч. у нее есть время на работу, и это время – священно <вариант: неприкосновенно, под покровит<ельством> закона. А у меня нет, на всё есть, кроме…
Моя работа, т. е. мой заработок – последнее, с чем я и окружающие считаются, просто не в счет.
Борис, у меня нет ни друзей, ни денег, ни свободы, ничего, только тетрадь. И ее у меня нет.
За что? —
Письмо 108
<кон. августа 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Борис. Как это может быть, что после такого чудного чувства люди могут выносить друг друга не-чудных, вне этого чуда – без.
Как это может быть, чтобы такое чудное чувство не распр<остранялось> потом на всё, как оно может остав<аться> в пред<елах> <оборвано>
Нужно только осмысл<ить> его <оборвано>
Как такое чувство локализировать, не распростр<анить> его на всё.
[Как может человек, бывший богом, неминуемо становящийся богом]
Человек обрекается им на божественность.
Как после него не понимать стихов, смерт<и> всего, куда он девал это знание <оборвано>
Письмо 109
8 сентября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина! Не значит ли что-нибудь твое молчанье? Может быть ты почему-либо недовольна мной? Перебираю и не нахожу, что бы я мог сказать или сделать такого, что бы могло тебя огорчить. Когда же перехожу к фантастическим, с трудом мыслящимся немыслимостям, то, как ты сама знаешь, этой области нет границ. Вот, в качестве примеров. Я переборщил, послушавшись твоей просьбы не говорить с Асей о тебе (помнишь?); ты с ней виделась или списалась и удивлена, в какой малой доле составляешь мою жизнь и на нее ложишься. Или. Ты виделась или списалась с Асей, она рассказала тебе про меня прошлою весной, и, забыв, что все это происходило до твоей просьбы, ты возмущена тем, что я твоей просьбы не послушался и что Ася знает, что́ ты составляешь для меня и т. д. Чем бы ты ни была задета, бесконечно ли большой оплошностью или бесконечно малой, умоляю тебя, опомнись и прости меня. Иногда же приходит мне в голову, что, взявшись переписывать обещанные три вещи, ты два-три слова в списке изменила, и отсюда вдруг пошла и разрослась переделка, которая тебя ото всего оторвала. И еще, несравненно естественнее: хлопоты по осуществленью встречи с Асей, в которых, понятно, деятельной стороной приходится быть тебе. Такие предположенья успокаивают, и они вероятны. Но если ты даже сердишься на меня, то, уверен, сердясь, чудесно знаешь, что будь ты здесь, я был бы вполне счастлив родиной и либо совершенно не думал о «загранице», либо в той только части, которая приходится на родителей и сестер. Но тогда ведь и они были бы тут? И не потому, что я тут так очарован, а потому что мне должно быть особо по-русски темно и трудно, чтобы жить, подыматься и опускаться и за что-то перевешиваться, когда кажется, что тянет завтрашним днем или будущим годом. И так как вышеприведенное допущенье – пустая мечта, то зиму я потрачу на то, чтобы как-нибудь научиться забываться по-немецки или по-французски, с тем, чтобы вероятная будущим летом поездка была живым, а не только пространственным фактом. Я пишу тебе сегодня страшно бедно и несвободно. По правде говоря, печальная неизвестность гаданий о тебе, т. е. о твоем, вероятно, мнимом недовольстве – сейчас единственная моя тема, она глядит на меня изнутри и в окно, всей осенью, всем холодом и облачным небом. И так как вырваться из ее широкого кольца у меня сейчас нет сил, то лучше я кончу.
Что сказать тебе нового, дельного, «фактического»? Я хочу все же написать статью о Р<ильке> – для здешнего критического журнала. Намеренье безнадежное, но попытаюсь. Говорил ли я тебе, что даже и расположенный ко мне редактор зимой сказал, что о нем (т. е. о Р.) дадут писать уж никак не мне, а облеченному доверьем знатоку из ГУС’а (госуд<арственного> ученого совета), п.ч. в эту и без того жгущуюся тему я только масла подолью. А нужно бы – воды, чтобы от нее кроме шипенья и грязи ничего не осталось. Странно, все свои разговоры я всегда свожу к таким сплетням. Это простительно прислуге, и то не нынешней. Может быть по переезде с дачи в Москву я на неделю съезжу в Петербург. Мне надо отдохнуть, хотя я за лето ничего ощутительного не сделал. Оттуда я м.б. напишу тебе о своих планах, но строжайше только тебе: если их узнают Аля или С.Я., то уже и тогда есть риск, что им не сбыться. Ты на себе, верно, замечала, что нет такой мелочи, которой бы не подхватил общий сквозняк. Тебе зевнется, и после ты об этом узнаешь из другого города или уж совсем с чертовых куличек.
Всей душой и всей осенней растерянностью крепко обнимаю тебя.
Письмо 110
18 сентября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина! С нетерпением жду Асю и рассказов о тебе. Мы друг у друга в долгу не остаемся. Последние наши письма как-то не наши. Я говорю о твоих. Вероятно, таковы же и мои. В предпоследнем меня огорчил играющий тон в отношении героя «П<оэмы> Конца». Давно как-то ты мне писала о своей «ненависти». Сейчас ты скажешь, что твоя манера думать о людях такова именно, и если это мне не понравилось, то это – мое дело. Да и что вообще ты такова, и т. д. Но т<ак> как кому и знать лучше твоего, к чему сводятся корни так называемого «характера», то долго тут говорить не придется. Вся суть конечно в волевых оттенках самопознанья, в их выборе. Может быть все это еще сложнее, чем я думаю, т. е. то, что мне кажется, природою в свою очередь еще сложено вдвое, но мне кажется, что ревновать тебя я могу только к тебе же, и мне было бы по-настоящему хорошо, если бы ты о нем не написала так бессердечно. Однажды это было и с какими-то твоими словами о Р<ильке>. Это трудно сказать в двух словах, но быть может ты все поймешь и с них. На меня веет от тебя холодом, и вызывает чувство, похожее на ревность, всякое проявленье добровольно бесплодного самопознанья с твоей стороны. Но теперь ты рассвирепеешь за стиль, т. е. за то, что от этой психологии пахнет ладаном. —
Вчера мы переехали в Москву. Писал ли я тебе в свое время о местности, в которой мы жили? Поначалу там было удивительно хорошо, и редкой сердечности люди в деревне. Всему этому есть объясненья в прошлом этого места, но это долго рассказывать. Я много гулял, почти совсем не работал и теперь не знаю, на что ухлопал больше трех месяцев. Приложенные пять стихотворений в редакциях принимают очень восторженно, но ты мне скажешь, как и о Шмидте, не есть ли это модифицированный Ходасевич, т. е. не пришел ли я, дав возобладать над собою Гётеански-Тютчевской стихии, исторически тяготевшей над самим местом (Абрамцево и Мураново!), к какому-то подобию Ходасевичева «классицизма». Добавлю еще, что это никак не «вехи», что ни к чему я не шел и целей себе никаких не ставил, т. е. что все это – между прочим, но восходит к очень сильным и настоящим впечатлениям. Жаль, если они выставлены в смешном виде. В ощущении история у меня вернулась в природу, где ей и подобает быть. – Маяковский и Асеев понемногу берутся за ум и написали по хорошей поэме к десятилетью. Меня это радует. Их благоденствовавшее безделье рядом с моим долго выбивавшимся из нужды трудом стало меня просто задевать в последние годы. Теперь это уравновесится. Письма моего они не поместили, но имя с обложки сняли. Встретились с Асеевым по-дружески. В авторском чтении его поэма показалась мне местами прямо-таки замечательной. Как выйдет, пошлю тебе. С Маяк<овским> еще не встречался. Однако в глубине отношенья эти непоправимо двойственны. Хуже всего то, что Асеев, защищая сантиметровые масштабы своего «миросозерцанья», начинает швыряться и тобою, удивляясь, как, любя Крысолова, я не понимаю, за что его люблю. Ты, оказывается, тоже «формалистка», сознательная, как они, или бессознательная, как я, по их мненью. Все это совершенные пустяки, но бывают состоянья души, при которых даже положенья за столом или то, кто с кем идет на общей прогулке, переживаются с отчетливостью событья. Именно этой повышенной чувствительностью я и страдаю по отношенью к тебе. – Временности начинают редеть. Их будет все меньше и меньше. Эту зиму я еще посвящу заделыванью последних дыр: реализации Спекторского и прочего. О дальнейшем, т. е. о том, что тебе всего интереснее: о тебе – боюсь говорить. Пока все шло как надо. Спасибо тебе, что удержала меня год назад. Уже я знаю и вижу, зачем это было. Если и моя выдержка получит такое же оправданье, это будет просто удивительно. – Как здоровье Мура? С «пузом» – чудесно. То, что ты написала о нашей «дружбе», конечно, неправда. Ты все прекрасно знаешь и только дразнишь меня. Это опять одна из крайностей самосознанья. Но раз подпал ей и я. Это когда я поставил в пару (в одном письме к тебе) Ахматову с Волошиным. Ты сама знаешь, что по отношенью к ней это было низостью. Я не знаю зачем, т. е. как, это сделал. Ты не остановила меня потому, что поняла, что это такое, я же настолько неловок и глуп, что каждую твою холодность к другому слышу собственной кожей.