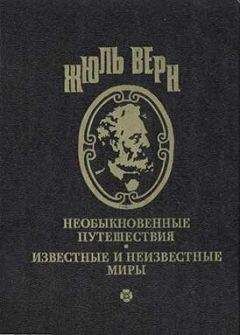Лев Павлищев - Мой дядя – Пушкин. Из семейной хроники
К новому 1834 году Пушкин был пожалован в камер-юнкеры и, невзирая на недоброжелательство Бенкендорфа, получил ссуду в размере двадцати тысяч рублей ассигнациями на печатание одобренной государем «Истории Пугачевского бунта» в одной из казенных типографий, по выбору автора. Эту последнюю милость Александр Сергеевич счел блистательной победой над завистниками, распускавшими оскорбительные слухи, что он взялся за нелегкое историческое исследование, очертя голову, будучи-де совершенно неспособен к серьезному труду.
О первой милости Надежда Осиповна сообщает моей матери от 26 января 1834 года следующее:
«Известно ли тебе, милая Ольга, что Александр, к большому удовольствию жены, сделан камер-юнкером? Представление ее ко двору в среду, 17-го числа, увенчалось большим успехом. Участвует на всех балах, и о ней везде говорят; на бале у Бобринских император танцевал с Наташей кадриль, а за ужином сидел возле нее. Говорят, на бале в Аничковом дворце моя невестка была поистине очаровательна. Танцевала много, не будучи, на ее счастье, беременной.
Согласия Александра быть камер-юнкером и не спрашивали. Пожалование для него нечаянность, от которой не может и опомниться. Никогда он этого не желал, а хотел ехать с женой в деревню на несколько месяцев, в надежде сделать экономию; теперь же принужден расходоваться.
Наташа всегда прекрасна, щегольски одета; везде празднуют ее появление. Возвращается с вечеров в четыре или пять часов утра, обедает в 8 часов вечера; встав же из-за стола, идет переодеваться и опять уезжает.
Дети Александра прелестны, – пишет бабка от того же числа. – Мальчик хорошеет с часу на час. Маша не изменяется, но слаба; у нее нет до сих пор ни одного зуба и насилу ходит. Напоминает мою маленькую Сонечку, и не думаю, чтобы она долго прожила[169]. Маленький Сашка большой любимец папаши и всех его приятелей, но мамаша, дедушка и я предпочитаем Машку».
Александр Сергеевич действительно попал в камер-юнкеры недуманно-нежданно, и сюрприз этот большого удовольствия ему на самом деле не доставил. Он увидел, во-первых, не только невозможность ограничить расходы, но и неизбежность новых непомерных издержек, не ограничивавшихся придворным мундиром; на выручку от продажи «Истории Пугачевского бунта» Пушкин смотрел лишь как на средство погашения долгов. Во-вторых, будучи чувствителен ко всяким прискорбным для его самолюбия намекам, Пушкин считал неловким пародировать в камер-юнкерском мундире, наравне с молодыми людьми (считал он себя в тридцать четыре года пожилым человеком). В-третьих, ставя независимость выше всего, Александр Сергеевич стеснялся официальным присутствием на торжественных выходах, придворных обедах, церемониалах. Высказал он свои мысли и в письме к Наталье Николаевне из Петербурга, весною того же года, сообщая следующее:
«Третьего дня возвратился я из Царского Села, в пять часов вечера; нашел на своем столе два билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте; я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров и что он велел нам это объявить. Литта во дворце толковал с большим жаром, говоря: «И у а сереndant pour messieurs de la cour des regies fixes, des regies fixes»[170], на что Нарышкин ему заметил: «Vous vous trompez, c’est pour les demoiselles d’honneur»[171]. Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым и Реймерсом – ни за какие благополучия! J’aime mieux avoir le fouet devant tout le monde, как говорит m-r Jourdain»[172]. В других письмах Александр Сергеевич иронически называет жену «камер-пажихой».
Над запоздалым камер-юнкерством Пушкина подсмеивались – впрочем, совершенно добродушно, как говорят французы, sans chercher noise (без намерения поссориться (фр.)) – любившие поэта от души Лев Сергеевич, с неизменным своим спутником Соболевским, и князь Петр Андреевич Вяземский. Соболевский, воспевший тогда дядю Льва четверостишием, по случаю невозможности тратиться «храброму капитану» на шампанское:
Пушкин Лев Сергеич,
Истый патриот,
Тянет ерофеич
В африканский рот, —
не пропустил оказии угостить «старшего» двустишием:
Сияй, сияй, о Пушкин камер-юнкер,
Раззолоченный, как клинкер.[173]
Рифма Сергея Александровича чрезвычайно понравилась князю Вяземскому, который ею и воспользовался, письменно приглашая дядю Александра посетить поэта И.П. Мятлева:
«Надобно быть, – заключает свое письмо Вяземский. – Приезжай сегодня. К тому же Мятлев
Любезный родственник, поэт и камергер,
А ты ему родня – поэт и камер-юнкер;
Мы выпьем у него шампанского на клюнкер,
И будут нам стихи на м – й манер»…
Александр Сергеевич, при свидании с моей матерью в следующем, 1835 году, высказал ей все, что он выстрадал со времени своего камер-юнкерства. По словам Ольги Сергеевны, он сделался тогда мучеником. Заботы денежные, уязвленное самолюбие, а также другое, самое мучительное чувство – ревность, – правда, ни на чем не основанная, – не давали ему покоя. Будучи свидетелем блистательных успехов Натальи Николаевны на вечерах большого света, видя ее окруженною толпою великосветских всякого возраста кавалеров, расточающих ей комплименты, дядя Александр расхаживал по бальным залам, из угла в угол, наступая дамам на платья, мужчинам на ноги и делая другие тому подобные неловкости; его бросало то в жар, то в холод. Возвращаясь же домой, он не сообщал жене этих невыразимых мучений, что считал несовместным и с достоинством непорочной, вполне преданной ему Натальи Николаевны, и с своим собственным. Не делился Пушкин испытываемыми тяжелыми чувствами не только с Соболевским и Вяземским, но даже и с естественным другом своим – «храбрым капитаном», опасаясь его болтливости, и только через год высказался сестре. Будучи убежденным, что нет ничего смешнее, как высказывать чувства ревности, тем более ревности, не имеющей под собою твердой почвы, дядя таил в себе снедавшие его муки. Если ко всему вышеизложенному прибавить сознание, что за всяким его шагом и на поэтическом поприще, и в общественном быту следят приставленные к нему непрошеные аргусы, журнальные зоилы, словом, легион врагов явных и тайных, то можно лишь изумляться мужеству, с каким он все это переносил. Между тем, не высказывая никому душевных волнений, Пушкин, к несчастию, обнаруживал, в силу своей восприимчивой натуры, внешним обращением именно то, чем страдал. Скорбь поэта не ускользнула, таким образом, от его личных врагов: они проведали слабую струну его, слабое место его обороны.