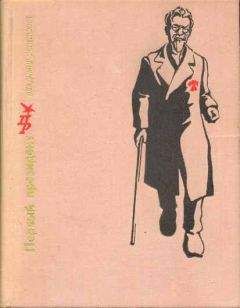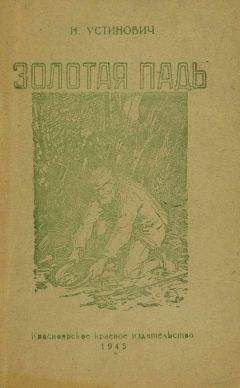Владимир Бараев - Высоких мыслей достоянье. Повесть о Михаиле Бестужеве
— Раз ты знал, что мы в Забайкалье, чего же не сообщил? — спросил Бестужев.
— Но как? Да и слышал только о Трубецком, Волконском, а про вас не знал. И чем вы могли помочь?
— Попросили бы перевести к нам.
— Меня-то, беглеца? Как только отковали от тачки, пошел в деревню, упросил одного кузнеца разбить кандалы, бежал, прикинулся нищим и пошел на запад. Зима, мороз лютый, едва не замерз. Но выжил — все-таки добрый народ сибиряки! И ночевать пустят, и накормят, да в дорогу кой-чего дадут… Шел так и добрался до Енисея. Оттуда решил к Минусинску спуститься — все южнее, теплее и от тракта подальше, да не успел — снова арестовали, отвезли в Иркутск. Тут уж высочайшего распоряжения не ждали — наказали плетьми, а это, брат, не лоза и не шпицрутены — посерьезнее штука. Так попал обратно в Забайкалье, опять приковали к тачке… Ох, круги адовый — вздохнул Луцкий, мотая головой. Слушал, смотрел на него Бестужев и удивлялся, как не сломался, выдержал он. И так странно рассказывает, то и дело усмехаясь, будто не о себе, а о ком-то другом. А Ваня Токмаков сидел бледный, притихший, словно онемев от исповеди беглеца. Вырос, родился здесь, много видел их, но не представлял, до чего тяжко каторжникам в рудниках.
— Когда же освободили от каторги?
— В пятидесятом. Култума — место поселения, недалеко тут, верст двести. Служу по откупам, триста рублей серебром в год. И одному не густо, а у меня — куча детей.
— В правах восстановили?
— Из-за побегов амнистии не подлежал, но недавно все-таки вернули дворянское звание. Однако жена и дети как были горнозаводские, так и остались. А это значит, в Россию можно ехать только мне. Вот она, царская милость: бросай семью, езжай один!
— Нет, надо подумать. Хочешь, поговорю с Муравьевым?
— Вы с ним накоротке?
— Ну как сказать? Слово замолвить попробую.
— Был бы очень признателен. Но вряд ли разрешат — денег-то на дорогу сколько…
— Погоди, в наше время все может быть. Главное, добиться разрешения в Петербурге, там о деньгах не очень-то думают, спохватится лишь местное начальство, да будет поздно — предписание выполнять надо. Я, между прочим, в таком же положении. Детей, правда, двое, но жена, три сестры, сам — седьмой. Тоже думаю уехать, но подожду, пока подрастут дети…
Бестужев знал, что тысячи матросов и солдат были сосланы в Сибирь и на Кавказ, догадывался об их судьбе, но лишь после встречи с Луцком получил представление об истинных страданиях младших чинов, попавших на каторгу, которая была для них намного страшнее. Боль и стыд охватили его за свой свежий, здоровый вид, за хоть и не щегольскую, но добротную одежду, а главное за то, что фактически имение он вверг Луцкого в пучину страшных испытаний. И он дал себе слово помочь ему и его семье.
ЧИТА — СЕЛЕНГИНСК
Проезжая села, Бестужев то и дело слышал торжественный перезвон колоколов — повсюду отмечалось разграничение по Амуру. В Чите он подробно рассказал Завалишину о своем путешествии и переговорах в Айгуне. Дмитрий Иринархович слушал со скептической усмешкой и вовсе не разделял восторгов по поводу дипломатического успеха, достигнутого благодаря воле, твердости и разумной тактике Муравьева. Ехидные реплики по адресу генерал-губернатора и вся отстраненная позиция Завалишина раздражали Бестужева. Переубеждать его было бесполезно. Можно, конечно, быть недовольным местными властями, упрекать за ошибки и прегрешения, но стоит ли мазать все черной краской? Ведь Айгунский трактат — событие из ряда вон выходящее: без единого выстрела возвращена гигантская территория, равная чуть ли не половине Европы.
Все это венчало титаническую деятельность экспедиции Невельского, подвиги русских морских офицеров по освоению низовьев Амура, Сахалина и побережья Японского моря, а Завалишин брюзжит, фыркает незнамо на что. И потому Бестужев расстался с Дмитрием Иринарховичем внешне благопристойно, но без особой теплоты и сердечности.
Приехав в Верхнеудинск поздно вечером, Бестужев заночевал у Курбатовых на Большой улице, утром переправился через Селенгу и, проехав мимо Иволги, Оронгоя, Гусиного озера, начал подниматься по Убиенной пади.
Название свое она получила из-за битвы, происшедшей здесь в 1688 году, когда сосланный гетман Украины Демьян Многогрешный разбил войска монгольского хана Очироя. Только что став свидетелем важного исторического события, каким было заключение Айгунского договора, Бестужев невольно бросал взгляд в глубь времен, пытаясь разглядеть в них едва видные пунктиры, ведущие из прошлого в настоящее.
Так, в Нерчинске и Селенгинске полвека назад служил его дядя Василий Сафронович Бестужев. Не нажив службой никакого богатства, он подал в отставку и ушел в Россию пешком. А еще раньше, в 1727 году, сюда был сослан Меишиковым арап Петра Великого Абрам Ганнибал, который строил в Селенгинске крепость. Стены ее, как и половину старого города на том берегу, давно снесли бурные воды Селенги. Но причудлива судьба, ведь именно Савва Рагузинский, который в ту пору заключал договор с Китаем и основал Кяхту, еще в 1704 году привез в Россию арапчонка, будущего прадеда Пушкина, и подарил его Петру Первому. Рагузинский и опальный Ганнибал наверняка виделись в Кяхте или Селенгинске…
Бестужев добрался до перевала и вскоре увидел сквозь редкие стволы сосен крыши Селенгинска. И тут мысли о прошлом уступили место нетерпению, радости, тревоге от предстоящей встречи с семьей: как там Леля и Коля? Ладит ли жена с сестрами? Не заезжая в центр Селенгинска, где его могли остановить знакомые, он проехал по окраине, у полей, засаженных знаменитым селенгинским табаком, и помчался, поднимая облака пыли, по дороге к дому в пяти верстах от городка.
Еще издалека он разглядел у ворот две крохотные фигурки и узнал своих ребятишек, а на лавочке сидели его сестры. Увидев, что кто-то скачет к усадьбе, дети перестали бегать. Резко осадив лошадь, Бестужев выскочил из тарантаса и бросился к ним. Леля обняла отца, а двухлетний Коля, не узнав его, испугался и побежал к теткам, которые, поднявшись с лавки, уже спешили к брату. Объятия, поцелуи.
— Ты что, не узнал? — смеялась Леля над Коленькой. — Это же папа!
Мальчонка успокоился, отец поднял его на руки, прижал к себе и спросил, где мама.
— Мама дома, болеет, — тихо прошептал малыш. Открыв калитку, Бестужев вбежал во двор, поднялся по крыльцу и, распахнув дверь, увидел жену, лежащую в постели. Мария поднялась и со слабой улыбкой протянула руки. Он обнял ее, поцеловал.
— Наконец-то! Думала, уж не увижу, — заплакала она.
— Ну что ты, успокойся.