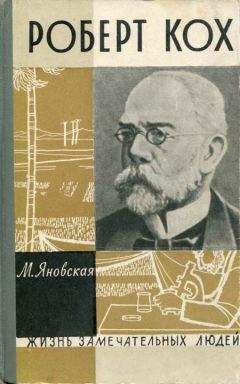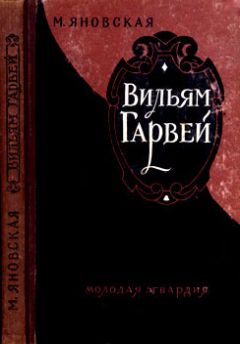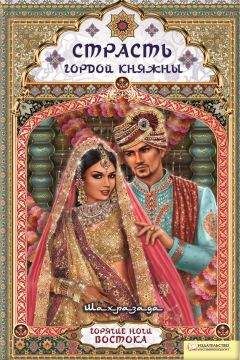Миньона Яновская - Сеченов
Эти прогулки на лошадях вдвоем с женой в ее родном именьице Клипенино заменяли им поездки в Крым, о которых они постоянно мечтали, любя море, и которые почти никогда не были для них доступны из-за отсутствия денег. По вечерам в клипенинском доме, в деревенской тиши, из окон слышалось выразительное чтение Ивана Михайловича и время от времени голос Марии Александровны. Она сидела близко возле него, шила или штопала — она не умела сидеть без дела — и наслаждалась этой близостью, любимым, знакомым голосом, который можно слушать бесконечно, только бы никто не помешал. Так они прочитали всю «Войну и мир» Толстого, которого очень любили оба.
В Клипенино появились на их горизонте сестры Домрачевы — Елизавета и Наталья Николаевны, одна обещавшая в будущем стать незаурядной музыкантшей, другая — художником и скульптором. Эти особенно прижились в семье Сеченовых. Елизавета Николаевна долгие годы жила с ними на правах дочери и здесь, в Клипенино, и в Москве, где она поступила в консерваторию на фортепьянное отделение.
В этой идиллической картине — Сеченов у стола за книгой, Мария Александровна у рабочего столика, одна-две юные девушки, теплый тихий вечер за окном, шелест деревьев, ударяющих ветвями по ставням, — в этой картине был еще один непременный участник: собака. Собаки разводились в Клипенино чаще всего крупной породы — овчарки или сенбернары; щенков выращивали любовно и заботливо, пристраивали в хорошие руки и двух-трех оставляли себе, чтобы не скучать, когда родительница их помрет.
Звали собак по-разному: Норками, Зорьками, Тучками, но все больше Бурками. Эта кличка давалась по наследству самому лучшему из щенков. И один из этих Бурок сыграл роковую роль в жизни Ивана Михайловича.
Мария Александровна «начинает пристращаться к хозяйству и засиживается в деревне долее обыкновенного», — пишет Сеченов Мечникову, констатируя факт; в этой констатации чувствуется скрытая жалоба: снова он один остается в своей квартире на Васильевском острове, как некогда в Эртелевом переулке, а затем на Херсонской улице в Одессе. И квартира уже не кажется такой милой и уютной, потому что нет в ней хозяйки. И Сеченов в тоске бегает по десять раз в день к почтовому ящику в ожидании ее скупых писем.
Сам он пишет много и часто и очень подробно обо всем: о вечере у «милой Аннушки», о лекций Пржевальского, о «субботе» у Боткина, о свадьбе Верочки Пыпиной, о том, что Владимир Александрович Обручев намерен жениться и что теперь, когда они с ним часто беседуют о перестройке дома в Клипенино, он впервые услышал в голосе брата теплые нотки.
Смирился, наконец, привык «полковник», как величает его Сеченов, к новому мужу сестры, смирился даже с тем, что муж этот не признается в обществе мужем. Смирился и полюбил Ивана Михайловича, потому что непредвзятому человеку невозможно было его не полюбить.
Служба «полковника» идет спокойно, без передряг и неприятностей. Он продвигается в чинах, женится на хорошей девушке, вполне доволен своим положением. Скоро он получит генеральский чин, и красивый, блестящий, еще не старый, как далек он будет от того Владимира Обручева, который искал жизненной цели у Чернышевского и пожертвовал своей свободой ради народного дела. Тайный «великорусец», он уже давно вспоминает об этом периоде своей юности со снисходительной улыбкой и вообще предпочитает не вспоминать — так будет спокойней и для него и для окружающих.
Иногда они с Сеченовым обедают вместе. Иногда ходят в оперу или в концерт. Иногда просто болтают по вечерам о разных разностях, все больше о клипенинском доме, о цвете новой крыши, о том, как пересаживать деревья в небольшом саду.
Для Марии Александровны это был свой уголок, свое собственное гнездо, которого добрую половину жизни она была лишена. Здесь проявились ее организаторские таланты, ее умение обращаться с простым народом; подрядчик и рабочие так хорошо сошлись с ней, что не только не обманывали, не обсчитывали, не норовили сорвать побольше, но сами же придумывали разные рационализации, чтобы побыстрей отстроить для «милой докторши» ее домик.
Она в самом деле была здесь докторшей: многие приходили к ней издалека, потому что ничто так быстро не распространяется среди соседних деревень, как весть о докторше, которая хорошо и бесплатно лечит.
Она все чаще и дольше засиживалась в деревне, а Иван Михайлович чувствовал себя опустошенным, когда ее не было возле.
В письмах он называет ее самыми нежными именами, как и двадцать лет назад, — «доченька», «родное дитятко», «моя родная»…
«Поверишь ли, мое родное, дорогое дитятко, писать тебе письма стало для меня родом потребности — словно дела не сделал, если пройдет вечера два без такого занятия… Да и пишутся они легче, чем когда-либо прежде, благодаря связывающему нас теперь животрепещущему интересу. Как я был рад, читая твое последнее письмо, и за тебя, и за постройку, и за милых рабочих — ведь вот нашлась же кучка российцев, исполняющих дело честно и добросовестно! Рад душевно и с своей стороны могу лишь поощрить тебя в твоем добром намерении, вознаградить их пощедрее…»; «В пятницу распростился с барышнями. Завтра начну опыт с обыкновенной селитрой, не получится ли то же, что с нашатырем, в виду того, что и при растворении селитры получается много тепла…»; «Купил для милых барышень прелестный маленький спектроскоп за 45 руб…»; «Сегодня я кончил лекции нервной физиологии 4-му курсу с очень радостным чувством, моя родимая, родная, милая, дорогая доченька, во-первых, потому, что в течение года все без исключения опыты удавались блистательно, во-вторых, потому, что конец лекций — ведь это вернейший признак весны…»
И вдруг все та же страшная тень, витающая над ними: быть может, в глазах тамошней публики ему, как человеку постороннему, не следует ехать в Клипенино в разгар постройки, когда хозяйке не до гостей? Одно дело, он приезжал при жизни матери — мало ли кто ездил тогда в Клипенино. А теперь, когда молодая хозяйка живет одна, да еще занимается перестройкой — не вызовет ли его приезд кривотолков, к которым так чувствительна ее наболевшая душа? Ему-то, Сеченову, все равно, что бы там и кто бы ни говорил. Но она женщина, как птица, свивающая свое долгожданное гнездо, как бы не подрезали этой птице крыльев.
Но она считает, что ехать можно, и он снова весел и бодр. Он даже через Надежду Васильевну Стасову достает у одной барышни щенка сенбернара, чтобы улучшить породу клипенинского «собачьего стада».
Он едет в Клипенино, а в сентябре возвращается один: Мария Александровна осталась «на хозяйстве». И снова живет от письма к письму, от опыта к опыту, живет и ждет ее приезда в свою опостылевшую квартиру.