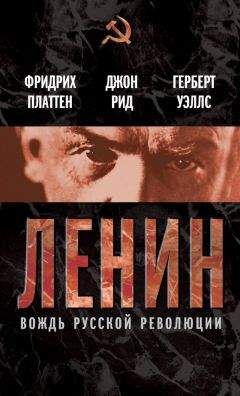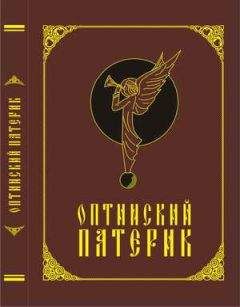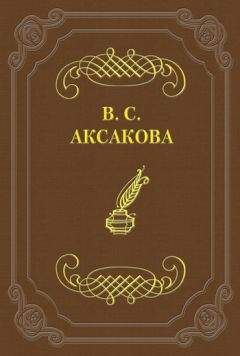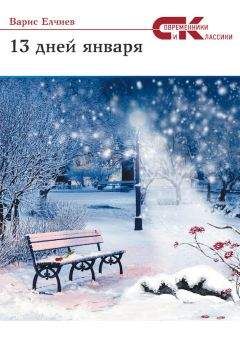Герберт Уэллс - Ленин. Вождь мировой революции (сборник)
Резолюция прошла с двумя голосами против при двенадцати воздержавшихся.
Было уже далеко за пять утра, и после принятия резолюции, призывавшей солдат и железнодорожных рабочих остановить все военные эшелоны, которые были отправлены Керенским, Калединым и другими против Петрограда, Крыленко, с воспаленными от бессонницы глазами, стал с возвышения размахивать телеграммой.
– Товарищи! С Северного фронта! Двенадцатая армия направляет приветствие съезду и объявляет о формировании Военно-революционного комитета, который принял на себя командование Северным фронтом. Генерал Черемисов признал комитет, а комиссар Временного правительства Войтинский подал в отставку!
Солдаты бросились обнимать друг друга; многие плакали. Зал гремел от вырвавшихся на свободу эмоций. Петроград благополучно перешел в их руки. Рабочие счастливо переминались с ноги на ногу, держа в руках оружие, пьяные от усталости, они весело толкали друг друга, выходя на улицу.
Было уже шесть утра, когда мы вышли на ступеньки Смольного, потягиваясь всеми оцепенелыми мышцами, и вглядывались в небо, тщетно пытаясь разглядеть встающее солнце. В холодном свинцово-сером рассвете солдаты и красногвардейцы стояли к нам спиной и грели руки у небольшого костра на площади. Они казались единственной стойкой, надежной человеческой силой в мире, который в остальном был громадным вопросительным знаком.
Первые декреты Ленина
– Товарищи, а теперь мы приступим к образованию социалистического государства…
Я механически повторил эти слова за Лениным на английском и отметил, что Джон Рид, сидевший рядом со мной, записал это предложение.
Вы не найдете это предложение ни в одной газетной заметке второго заседания Второго же Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в ночь на 26 октября/ 7 ноября. Подробности съезда не сохранились, если их вообще кто-либо записал. Парламентские стенографы покинули Смольный, когда меньшевики, правые социалисты-революционеры и бундовцы предыдущей ночью покинули здание под благовидным предлогом.
Джон Рид записал это в своей бесподобной книге «Десять дней, которые потрясли мир», и в том же 1919 году я написал об этом в своей книге «Ленин: человек и его работа». И только сейчас, сравнивая то, что мы оба написали, я обнаружил, что наши версии слегка расходятся. Рид говорит: «Теперь Ленин стоял, ухватившись за край кафедры и обводя своими маленькими, часто мигающими глазками толпу, в ожидании, пока она угомонится, очевидно, равнодушный к продолжительным овациям, которые длились несколько минут. Когда овации прекратились, он просто сказал: «А теперь перейдем к строительству социалистического порядка!» И вновь раздался оглушительный рев человеческих голосов».
Признавая, что Рид очень точен как репортер, я все же придерживаюсь своей версии. В любом случае, это великая фраза. И хотя она до сих пор не включена в официальные труды Ленина, она все же пробила путь к историкам…
Не только мы с Ридом, но и сотни собравшихся в Большом колонном зале Смольного в ту ночь видели Ленина впервые. С того момента, когда председательствовавший Каменев сказал: «Товарищ Ленин сейчас обратится к съезду», мои глаза устремились к невысокой плотной фигуре в потертом костюме. Держа в одной руке пачку бумаги, он быстро прошел на сцену и обвел огромный зал своими довольно маленькими, пронзительными, но веселыми глазами.
В моей небольшой книге про Ленина я что-то писал о нашей реакции на то, что мы увидели в ночь на 26 октября/ 8 ноября. Я описывал, как это делали многие другие, манеру Ленина перекатываться с пяток на носки, закладывать большие пальцы рук за жилетку под мышками; его голос, в котором мы слышали «скорее жесткие, сухие нотки, чем красноречие».
В предполагаемой прокламации о мире, которая была обращена к «народам и правительствам всех воюющих наций», я слышал лишь отдельные фразы, – вопрос о мире был болезненным, но ясным, поэтому все документы, которые ему нужно было прочитать, не нуждались во вступительных замечаниях. Об этом он сказал спокойно и мимоходом. И вообще он говорил в такой манере, словно лишь вчера общался с этой же аудиторией или, по крайней мере, говорил с ней раз в неделю.
Выступая, он призывал к «справедливому и демократическому миру», что означало «немедленный мир без аннексий… без репараций». Несмотря на то что «никаких репараций, никаких аннексий» сделалось лозунгом умеренных социалистов, Керенский, Либер, Дан и другие умеренные лидеры повторяли эти слова, ничего не делая, чтобы реализовать их. Ленин вдохнул в эти слова жизнь, не через риторику, но направлением, которое приняла партия. Это была аннексия, если какая-нибудь нация «насильно удерживалась в границах данного государства». Это был «захват и насилие», если какая-нибудь нация не давала другой «права решать, какую форму государственности и государственного существования ей избрать свободным голосованием, проведенным после полной эвакуации войск».
«Правительство считает величайшим преступлением против человечества продолжать эту войну по вопросу о том, как разделить между сильными и богатыми нациями слабые народы, которые они завоевали…»
* * *Я не сводил глаз с оратора, пытаясь вообразить себе, как он должен чувствовать себя сейчас, когда революция и его партия объединились, и всем этим управлял один человек – Ленин.
Это последнее Ленин, кажется, полностью забывал до такой степени, что я из-за этого приходил в раздражение и испытывал смутное неудовлетворение. Получалось, будто он недостаточно высоко оценивал свою роль.
В чем был секрет этого коренастого лысеющего человека, которого так любили и ненавидели? Ленин в самом деле представлял некоторую загадку для наших американских глаз, привыкших к политическим фигурам, отдалившимся от толпы, окруженным пресмыкающимися меньшими чинами, за которыми следят агенты спецслужб. Даже само их, этих политиков, появление тщательно планируется людьми, создающими им рекламу, спичрайтерами и управляющими кампанией, причем все это сопровождается церемонией, облечено ею.
До чего же озадачило нас предложенное Лениным сочетание: человек совершенно непринужденный, при этом без так называемого начальственного вида, такой заурядный – на первый взгляд – в своих манерах и поведении. Нам пришлось приспособиться к этой странной смеси – к ленинской беспристрастности, независимости, словно он был учеником, подменявшим великого актера, который через вечер или два вернется к своей роли, и в то же время к его совершенной простоте и полному отсутствию самоуверенности. Разумеется, это были противоположные стороны одной и той же медали, его глубоко въевшаяся вера в революционную инициативу людей. Это придавало ему ощущение замечательной свободы и, как я неоднократно отмечал, радость и энтузиазм. Всю зиму, пока я не уехал из Москвы во Владивосток весной 1918 года, я поражался этой свободе, общаясь с Лениным.