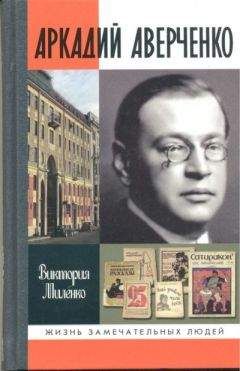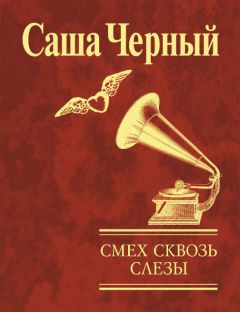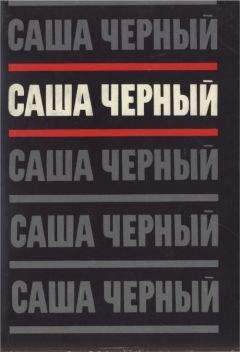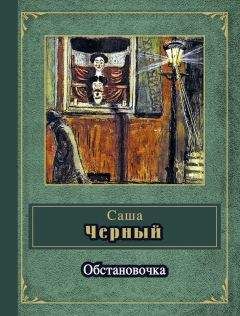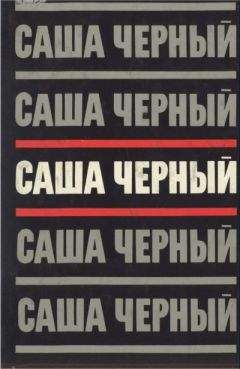Виктория Миленко - Саша Черный: Печальный рыцарь смеха
Аверченко был прав: жизнь в Берлине все более начинала походить на тот же беспросветный ад, из которого русские эмигранты бежали. В течение уходящего 1922 года цены поднялись в 40 раз, за доллар вместо 190 марок давали 7600; цены на предметы первой необходимости в начале 1923 года исчислялись миллиардами, деньги носили в сумках, бельевых и продуктовых корзинах, возили в тележках и детских колясках. Это было то сумасшедшее время, о котором Томас Манн сказал: «Инфляция — это трагедия, которая порождает в обществе цинизм, жестокость и равнодушие»
В Германии назревал политический кризис, усугубляемый французской оккупацией Рура. В Баварии поднимала голову немецкая национал-социалистическая рабочая партия Гитлера, который 27 января 1923 года провел первый съезд своей партии. Пять тысяч штурмовиков промаршировали по Мюнхену. Как тут не вспомнить старые строки Саши Черного: «Мюнхен, Мюнхен, как не стыдно!»
В книгоиздательском деле наступил тот критический момент, за которым уже виделась катастрофа. Никто не хотел рисковать, и Черному пришлось выпустить очередную книгу за свой счет. Отправляя экземпляр Куприну, он писал: «„Издание автора“ — очень сложная комбинация из неравнодушного к моей Музе типографа, остатков случайно купленной бумаги, небольших сбережений и аванса под проданные на корню экземпляры. Типографию уже окупил, бумагу тоже выволакиваю. Вот до чего доводит жажда нерукотворных памятников…» (цит. по: Куприна К. А. Куприн — мой отец. С. 211).
«Жажда нерукотворных памятников» — не просто шутка. Его книга действительно называлась «Жажда», с подзаголовком: «Третья книга стихов». Третья и последняя, уточним мы, потому что ни одного поэтического сборника Саша Черный больше не издаст. Он остановится на этой итоговой подборке стихов, написанных уже по ту сторону нормальной жизни, — стихов военных, псковских, литовских, берлинских.
Так почему же «Жажда»? Жажда чего?
Нам кажется, всего: покоя, свежего воздуха, перемен наконец…
Ему нужно было на что-то решаться, и в первую очередь определиться — возвращаться в Россию или нет? В 1923 году этот вопрос еще не вызывал у русской эмиграции того отторжения, которое придет позднее, и он был, пожалуй, самым насущным. Люди напряженно взвешивали pro и contra, спорили до хрипоты.
К тому же Берлин наполнился советскими нуворишами, поющими осанну объявленной новой экономической политике (нэпу). Эмигранты убеждали друг друга: значит, большевики осознали необходимость перемен. Так отчего бы и не вернуться? Там, говорят, разрешены частные книгоиздательства, там теперь почти свобода, там огромные гонорары, а подлинных мастеров слова недостает.
Саша Черный в свободу не верил и писал, что решение вопроса о возвращении было бы простым, если бы он имел обычную профессию, «без всякой идеологии», но ведь ломать себя придется уже в советской миссии при заполнении анкеты:
«Цель моего возвращения —
Культурное ближним служение…»
Ах, как будут ржать советские снобы!
Еще бы…
Как именно «культурно сближаться» с гегемоном-пролетариатом, чьи идеи тебе чужды? Не все так могут.
Что там делать свободной музе? Исследовать «книжные знаки»?
Что там делать студенту? Кустарить в «рабфаке»?
Что там делать ученым? Спросите у тех, кто выслан…
Распинаться ведь тоже надо со смыслом.
………………………………
Дух и гордость встают на дыбы?
Есть различные на свете рабы,
Но томиться рабом у родного народа —
Подвиг особого рода.
Узнав о том, что Алексей Толстой согласился редактировать литературное приложение к просоветской газете «Накануне», пропагандирующее «возвращенчество» в СССР, Саша Черный, по воспоминаниям, подверг обструкции даже собственный диван, на котором, бывая у него, сидел Толстой: «…указывая на диван, каждый раз предупредительно говорил: „Не садитесь на этот край… Здесь сидел этот гад!“» (цит. по: Галич Ю. Золотые корабли. Скитания. Рига: Дидковский, 1927). Конечно, была и поэтическая реакция:
В среду он назвал их палачами,
А в четверг, прельстившись их харчами,
Сапоги им чистил в «Накануне».
Служба эта не осталась втуне:
Граф, помещик и буржуй в квадрате —
Нынче издается в «Госиздате».
Алексей Толстой был не одинок. В «Накануне» стал работать журналист, от которого, казалось бы, менее всего следовало этого ожидать, — Илья Василевский (Не-Буква). Черный знал его с незапамятных питерских времен, посылал материал для публикации в его парижскую газету «Свободные мысли», совершенно антисоветскую, и вдруг такие перемены. Василевский приехал в Берлин с молодой женой, позднее вспоминавшей, что Саша Черный был «самым непримиримым» к большевизму, «слыл замкнутым, нелюдимым, застенчивым. О нем говорили коллеги: „Саша Черный так оживился, что даже поднял глаза…“» (Белозерская-Булгакова Л. Е. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1990. С. 33–34). Видимо, «поднял глаза» и на Василевского, пытаясь разглядеть, краснеет ли он, работая теперь на большевиков. Краснеет, но не от стыда:
Раскрасневшись, словно клюква,
Говорит друзьям Не-Буква:
«Тридцать сребреников? Как?!
Нет, Иуда был дурак…
За построчные лишь слюни
Самый скромный ренегат
Слупит больше во сто крат!»
Однако далеко не все сдались. Черный был рад встретить приехавшего на время в Берлин Петра Потемкина, старого товарища-сатириконца, от которого услышал очередную историю выживания. В своих скитаниях тот обзавелся непозволительной роскошью: новой женой и маленькой дочкой. Вместе с ними бежал из Москвы в Одессу, оттуда в Бессарабию, ставшую румынской, откуда контрабандистскими тропами добрался до Днестра, где сел наконец в лодку… Теперь Потемкин жил в пражском пригороде Мокропсы, где часто видел Цветаеву, поселившуюся с мужем там же.
Потемкин явно нуждался, выглядел неважно. В Берлине он продал Гржебину книгу стихов «Отцветшая герань: То, чего не будет», продолжение и одновременно надгробие своей питерской «Герани» 1912 года, и уехал обратно в Прагу.
Саша же устал, издергался до такой степени, что снова начал грезить «вершиной голой»:
О, если б в боковом кармане
Немного денег завелось, —
Давно б исчез в морском тумане
С российским знаменем «авось».
Давно б в Австралии далекой
Купил пустынный клок земли.
С утра до звезд, под плеск потока,
Копался б я, как крот в пыли…
Завел бы пса. В часы досуга
Сидел бы с ним я у крыльца…
Без драк, без споров мы друг друга
Там понимали б до конца.
По вечерам, в прохладе сонной,
Ему б «Каштанку» я читал.
Прекрасный жребий Робинзона
Лишь Робинзон не понимал…
Потом, сняв шерсть с овец ленивых,
Купил в рассрочку б я коров…
Двум-трем друзьям (из молчаливых)
Я предложил бы хлеб и кров.
Не взял бы с них арендной платы
И оплатил бы переезд, —
Пусть лишь политикой проклятой
Не оскверняли б здешних мест!..
Не стоит думать, что Австралия — это символ несбыточного. В то время русские эмигранты, особенно казаки, активно ехали и туда, чтобы «осесть на земле». Однако для Саши Черного «вершина голая» оставалась пока недосягаемой. Тем не менее Господь услышал молитвы поэта и послал жаждущему перемен — перемены.