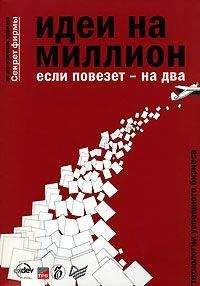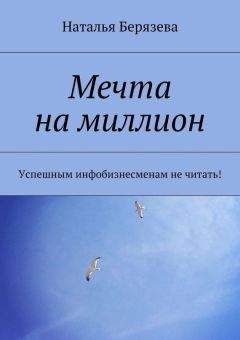Василий Ардаматский - Две дороги
В утро 342-го дня войны эти девчата еще были в городе, они перевязывали раненых, стирали госпитальное белье, подносили на передний край боеприпасы. Их последний подвиг, запавший даже в душу фашистского генерала, был еще впереди, но уже очень близко.
Это утро на своих лесных базах встречали вернувшиеся из ночных рейдов партизаны. Еще не остывшие после ночного боя, они в эти минуты не думали ни о весне, ни о шумевшем вокруг лесе, они вспоминали своих боевых товарищей, для которых этот бой стал последним.
В ночь под это утро недалеко от Гомеля, в глубоком тылу врага, спустились на парашютах советские разведчики Федор Кравченко и Александр Коробицын. Им предстояло выполнить важнейшее задание Родины. А их боевой товарищ в эти же утренние часы далеко, очень далеко от Гомельщины, в болгарской столице Софии, начинал свой последний бой.
В четыре часа утра болгарского генерала Владимира Заимова везли из тюрьмы в суд.
Окон в тюремной машине не было. Тусклая лампочка на потолке за густой проволочной сеткой моргала от тряски. Заимову вспомнились те секунды, когда он сделал три шага от тюремной двери до машины. Нежный весенний рассвет обдал его свежестью, прохладой, светлым небом. Но это длилось лишь мгновение — дверь машины захлопнулась, и все исчезло.
Постепенно глаза свыклись с сумраком, и он увидел обшарпанные стенки тюремной машины и сидевшего напротив охранника — молодого мордастого парня с пухлыми губами, отчеркнутыми сверху черными усиками. Он сидел, пододвинув ноги под скамейку, будто изготовился к прыжку, одна рука на расстегнутой и сдвинутой на живот кобуре с пистолетом, другой рукой он держался за лавку. Выпуклые, широко расставленные глаза охранника смотрели на него без всякого выражения. «Не похож на болгарина», — подумал Заимов.
Два месяца допросов и истязаний в тюрьме и в охранке — все палачи казались ему не болгарами. Но странно — у них были болгарские имена и говорили они по-болгарски без всякого акцента. Это казалось немыслимым — жестокость никогда не была в характере болгар. Храбрость — да. Но не жестокость.
Впрочем, допрашивали его не только болгары. Немцев он узнавал сразу — эти, что бы ни происходило, сохраняли деловое спокойствие, иногда даже улыбались. Однажды охранник хотел ударить его наотмашь, но он успел уклониться, и кулак охранника шмякнулся о стену. Немец, сидевший в стороне, снисходительно улыбнулся. О да, немцы и это делают лучше. Они все делают профессионально: и собирают машины, и истязают людей.
Немец был в штатском, хорошо отглаженном сером костюме. У него было тонкое интеллигентное лицо. Он равнодушно смотрел на происходящее, и, только когда охранник разбил себе руку, сделал знак прекратить, и сказал тихим голосом, будто размышляя вслух:
— Нет, все-таки это нелепая дикость, что какой-то мелкий функционер полиции избивает прославленного генерала. — Он говорил по-немецки, видимо зная, что охранник его не понимает. — Этому человеку поручили такую работу только потому, что его умственное развитие находится в эмбриональном состоянии и он просто не понимает происходящей здесь дикости. Но вы-то...
Немец подождал немного ответа и вышел из камеры.
Охранникам было мало того, что Заимов не опровергал обвинений против себя, они хотели получить улики против других, а главное — раскрыть все его связи.
Время от времени, очевидно, чтобы подтолкнуть его к мысли о капитуляции, ему устраивали очные ставки с людьми, продавшими совесть. Но он смотрел на этих людей с печальным удивлением: как они могли обменять совесть на жизнь? Как они собираются после этого жить? Для него это было непостижимо.
Главный инспектор полиции Цонев, руководивший допросами Заимова, прекрасно знал, что его сотрудникам не по силам состязаться с генералом в уме, и дал приказ беспощадно его истязать. У него была своя концепция — чем умнее человек, тем труднее переносит он боль.
Дикость... дикость... Это сказанное тогда немцем слово, как игла, вонзилось ему в мозг и требовало от него какого-то решения. И еще тогда, в первый раз во мраке боли, блеснула мысль самому покончить...
Боль... Он столько передумал о ней, что мог бы написать целый трактат о боли... о философии боли. Когда ему во время войны с турками осколком раздробило ногу, он испытывал чудовищную боль, но продолжал командовать своими артиллеристами, и потом, в госпитале, тот душевный порыв, с которым он вел бой, помогал ему справляться с болью и помогал врачам, лечившим его. Когда он уходил из госпиталя, врач-хирург сказал: «Уж я-то знаю, какие муки вы перенесли, и ваше мужество в больнице вызывает у меня не меньшее уважение, чем ваш военный подвиг». Ему вдруг захотелось сказать врачу, что и на поле боя, и здесь, в госпитале, ему помогала любовь к отечеству, но вовремя удержался от этой несвойственной ему высокопарности, только крепко пожал врачу руку и зашагал, прихрамывая, к выходу.
Потом было еще одно ранение — уже на фронте первой мировой войны, в самом начале 1917 года. За несколько дней до этого, в новогоднюю ночь, его солдаты братались с русскими, он видел, как это происходите, и даже не подумал помешать братанию. И с другой стороны тоже никто не мешал. Тогда он вынес свой окончательный приговор этой войне.
А между тем братание солдат на русско-болгарском фронте вызвало тревогу и в Софии, и в Петербурге. Последовали строжайшие приказы возобновить военные действия. Спустя несколько дней осколок русского снаряда попал ему в голову. И снова госпиталь. И снова врачи изумлялись его выдержке на операционном столе. Но он уже не мог сказать врачу то, что готов был сказать тогда, после выздоровления от первой раны. Боль второй раны он переносил как наказание, она для него была уроком истории, уроком долгим, на всю жизнь.
Но эта боль от побоев в глухой тюремной камере нечто совсем другое. Можно, конечно, поддерживать себя мыслью, что здесь, в застенке, он тоже ведет бой за свою Болгарию. Можно... Можно... Но мысль эта не была твердой, она как бы растворялась в боли, скользила, норовила исчезнуть. Тюремная камера — каменный ящик с высокой щелью зарешеченного окна, и мерзавец с красивым злым лицом наотмашь бьет его, и в глазах у палача пустота. Ему приказано бить, и он бьет. Если прикажут убить — он убьет, и глаза его будут при этом гореть такой же пустой яростью. Разве можно осознать это как бой, как сражение?
Его били почти ежедневно, истязали жестоко и расчетливо, он понимал, что они хотят убить в нем человеческое достоинство, чтобы потом иметь дело не с ним, а только с его оболочкой, лишенной духа. Боль врывалась в него с каждым таким допросом, растекалась по всему телу, мешала дышать, гасила сознание. Мысль всплескивалась над болью и тут же тонула в ней. Мысль одна и та же — он никого не предаст, никакие страдания не заставят его запятнать свою честь, изменить боевому товариществу.