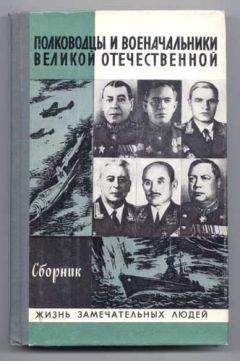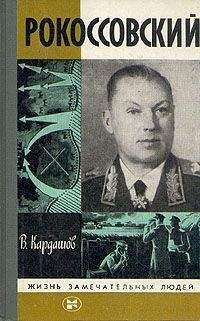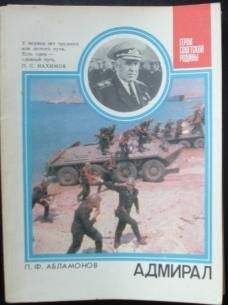Нина Гаген-Торн - Memoria
— Так... удивительного и чрезвычайного в жизни немало, ежели уметь видеть, это правда. И красоту, как цветы, легко рвать надо, чтобы не измять. Это все — правда. Но что же выглядеть думаете и чего ищете?
— Приехала я из Питера изучать лопарей. Но лопарей пока нет, а интересного кругом — много! В Коле я будто в сказку попала. А песни какие! Слушала бы, не отрывалась... Пела там старины Марфа Олсуфьевна Шаньгина... Олеша сказал, что вы тоже поете. Вот я и пришла...
— Про Шаньгину я наслышан, — кивнул Борис Иванович, — наслышан: женка память имеет твердую и голос хороший. Но сам ее не слыхал. Учился у другой великой души женщины... — Он указал тонким сухим пальцем на фотографию на стене. — Мария Дмитриевна Кривополенова. Мастерица была и утешительница.
Узкая койка у стены была застелена узорным рядном. На бревенчатых стенах висели фотографии: сморщенная старушка в повойнике и темном платке смотрела большими глазами; какой-то норвежский городок, чистые домики и суда у пристани; осанистый старик с раздвоенной бородой. В углу стоял деревянный шкафчик, ярко разрисованный птицами, цветами и травами.
Хозяин выдвинул из-за стола табуреты, приглашая садиться, а сам встал, прислонясь к окну и рассматривая меня.
— Борис Иванович! — доверчиво сказала я, поднимая на него глаза. — Если бы вы знали, как мне интересно жить на свете! Войдешь в комнату к незнакомому человеку, посмотришь: как интересно! Как здесь живут? И не знаю, что лучше: про себя ли рассказывать, вас ли расспрашивать?
— Любопытствуете к жизни? — усмехнулся Борис Иванович.
— Любопытствую! Нет, пожалуй, больше, чем любопытствую: хочется полюбоваться — откуда это так много в жизни прекрасного?
— А с непрекрасным как быть? — хмурясь, спросил Борис Иванович. Он сжал губы. — Со скверною как?
— Ну? — удивилась я. — Мне кажется, оно просто от недоразумения. Надо постараться понять, где хорошее, оно и окажется... Хорошего же все хотят? Я думаю, прекрасное должно все расти и расти на земле.
— Ну это едва ли! — покачал головой Борис Иванович. — Мысли текут из века в век. Песни хранят старину, тем и важны они. — Борис Иванович кивнул головой. Сел, положив на стол руки. — Слушайте, когда так:
Во таульи во городе,
Во тауль во хорошеем —
Поизволил наш царь-государь,
Да царь Иван Васильевич,
Он поизволил жонитися.
Да не у нас, не у нас на Руси,
Да не у нас во каменной Москвы,
Да у царя во Большой Орде
Кострюка, сына Демрюковича,
Да у его на родной сестре
Да на Марии Демрюковне...
Пел Борис Иванович негромко, протяжно и однотонно, широко открывая рот и покачивая седоватой головой. Сначала я усумнилась даже — пение ли это? Но чем дольше он пел, тем яснее выступали Москва, царские палаты, звенели свадебные чаши.
Глаза Бориса Ивановича смотрели вдаль, будто изумляясь встающим воспоминаниям. В однообразном ритме, в троекратной повторности нарастала многократность передачи, отложились переживания многих человеческих душ.
Песня несла слова, как река раковины: с мерным, повторяющимся рокотом.
Я слушала, держа карандаш.
—Так вы близко знаете Кривополенову? Я читала, как Озаровская вывезла ее в Петроград, она выступала там.
— Знавал. А она, как бывала в Архангельске, — у нас останавливалась, в Соломбале. А я с детства любитель был песен и память имел. Бывало, хожу вокруг и все слушаю. А как отняли ногу — новое пристрастие заимел. Утешает песня в несчастье. Как потерял ногу, она и говорит: «Калека ты, Борис, теперь не работник. Самое тебе дело петь, людям на потеху, себе на усладу, старине на прославление. Ты запоминай-ка!» И стала с голосу учить. — Борис Иванович замолчал, сжав губы, — не хотел говорить о своем несчастье. — Ну — что еще спрашивать будете?
— Я бы очень хотела про Кострюка записать. Может, вы продиктуете?
— Могу... Могу и сам записать...
— Я боюсь, Борис Иванович, что вы запишете слишком грамотно, — засмеялась я.
— Запишу сколь обучен, — нахмурился Борис Иванович.
— Ну да, а надо не так, как мы с вами грамматике обучены, а как слышится, это называется фонетически.
— Пошто так?
— Потому, что тогда остается говор, каким поется. Вы знаете, что в разных местах говорят различно. С говора записанная песня скажет, откуда она пришла, откуда родом, это — ключик в историю.
— Понимаю, — кивнул Борис Иванович, — для того и в трубу записывают?
— Борис Иванович, ты спой ей про виноградье. Вишь, мы не знаем, како виноградье, а поем! — вдруг сказал Олеша. Он тихо сидел на порожке.
— Это свадебная, величальная.
— Спойте, пожалуйста!
Борис Иванович погладил бородку и запел:
Виноградье — красно-зелено,
Да ишшо кто такой стучит,
Да во светых-то вечерах,
Да во светых-то вечерах?
Да виноградчица стучит.
Да ишшо спрашивают ребята
Да господина во дворе
Да ишшо около двора,
Да все трава да мурава,
Да все трава да мурава,
Да цветы лазу ревы...
Олеша смотрел расширенными глазами: казалось, он видел удивительные лазоревые цветы, прекрасный терем с хрустальными воротами и серебряными «ободверенками», неизвестную, но такую знакомую в корнях своих жизнь. Мне повернулось впервые «Виноградье» не толстой книгой А.Шейна, где записаны тексты песен, а узорчатой песней безногого Бориса Ивановича. Чем дальше он пел, тем больше развертывалось то, что жило не в словах, не в ритме — в отзвуке прошлого, долетавшего в глуховатом голосе, строгом, худом лице и подвижных бровях сказителя.
Я попрощалась с Борисом Ивановичем и договорилась, что приду, когда он будет свободен, вечером, буду еще записывать песни.
Заря, из широкого окна, заливала комнату Бориса Ивановича розовым светом. В нем, как в воде, плавали у окна подвешенные на шнурках птицы с девичьими лицами, покачивался резной кораблик, уплывая в полыхающее небо.
Борис Иванович сидел спиной к заре, опираясь локтями о стол. Лицо его казалось темным. Нос прямой полосой пересекал удлиненную линию глаз, как на византийских иконах. Клинышек бороды сливался с темным воротом рубашки.
Борис Иванович внимательно слушал меня — мы говорили о старообрядцах.
— Книги древнего письма, Борис Иванович, как и всякие книги, — говорила я, — отражают точку зрения группы людей, их писавших. Те, кто писал до Никона, — отразили свое понимание греческих текстов, с которых переводили, Никон — свое. В этом ли дело? Разве надо так держаться за букву?
— Я и не держусь, — отвечал Борис Иванович. — Дело не в букве и не в двуеперстии, а в том, что насилием введенное — духа лишается. Сказ есть: стоит Россия, не проваливается потому, что три старца неведомых в лесах за нее молятся. Перестанут они молиться и — рухнет все... — Борис Иванович посмотрел на меня и сказал: — Может, и не молятся они, а просто помнят да помалкивают. И того довольно. Беда приходит, когда обеспамятует народ. Понимаете, что сказать хочу?