Игорь Шелест - Лечу за мечтой
— Ты зачем тянешь?
— Я не тяну, — удивился тот.
В этот момент машина сильно затряслась и пошла сама все круче вверх. Горизонт сразу исчез под ногами, и сквозь фонарь виднелась лишь бездонная синь неба.
Теперь уже оба летчика что было сил пытались отдать штурвал от себя, но он прижался к их животам и словно окаменел… Самолет же, пребывая как бы в конвульсиях, повалился на крыло, вошел в глубокую спираль и, постепенно разгоняясь, продолжал сам по себе «гнуть» чудовищную перегрузку. Вот тут Казаков и услышал первую фразу от командира:
— Экипаж, приготовиться к покиданию машины!
Казаков проговорил в ответ:
— Погоди, не торопись…
Но тут последовала исполнительная команда:
— Всем покинуть самолет!
Дальше события развернулись еще живее. Казаков успел боковым зрением заметить, как Молчанов, который сидел от него справа, схватил у себя над головой рычаг люка и сорвал его. В этот момент Казакова ошарашила декомпрессия. Командир, заторопившись, не разгерметизировал кабину постепенно. В силу мгновенной разгерметизации она, как туманом, наполнилась мельчайшей снежной пылью. На секунды ничего не стало видно ни в кабине, ни вне ее Самолет, по-видимому, страшно ревел с открытым люком, но Казаков почти ничего не слышал: от декомпрессии в ушах будто полопались барабанные перепонки.
Когда же Казаков пришел в себя и в кабине буйные завихрения разогнали по углам снежную пыль, он увидел, что командира рядом с ним нет, нет и его кресла. Над местом, где он только что сидел, зияла квадратная дыра…
Алексей Ильич Казаков был одним из первых выпускников школы летчиков-испытателей. Это было в 1945 году. Тогда школой руководил боевой генерал, только что вернувшийся с фронта, Михаил Васильевич Котельников.
К слову, этот выпуск дал стране таких замечательных летчиков-испытателей, как Юрий Тимофеевич Алашеев, Василий Архипович Комаров, Федор Иванович Бурцев, Дмитрий Васильевич Зюзин, Валентин Михайлович Волков… Все они в свое время были удостоены звания Героя Советского Союза, и это говорит само за себя. Но вернусь к Казакову, о котором начал рассказ. Тем более что именно Казаков в этой плеяде был удостоен звания Героя первым.
В войну Казаков работал инструктором в Борисоглебской школе, готовил для фронта летчиков-истребителей. Сам рвался не раз на фронт, но его работу в школе считали тогда более важной.
И действительно. Когда я познакомился с ним, сразу же подумал: "Он определенно пользовался любовью и авторитетом у своих учеников, умел и зажигать, и гасить их сердца".
Среднего роста, спокойный, уравновешенный и скромный русский человек. Когда я сказал ему, что, мол-де так уж обстоятельства сложились в его нашумевшем тогда полете. «Расклад» оказался в его пользу, помимо всех его самых разумных и мужественных действий. Мне хотелось оценить сразу же его, и я затеял, пожалуй, чересчур смело этот разговор. Так и сказал ему:
— Алексей Ильич, говоря откровенно, вы не находите, что обстоятельства вам содействовали стать Героем?
Мы сидели с ним на скамейке в парке госпиталя, где он проходил очередное освидетельствование на предмет годности к летной работе. Поверх костюмов на нас были белые халаты. Я неотрывно смотрел ему в глаза, он не менее старательно стремился проникнуть в мои мысли. Когда он выслушал мою задиристую фразу, теплота его добрых карих глаз нисколько не потухла. Я решил пояснить:
— Видите ли… Я так говорю, совсем не желая вас обидеть. Но, переговорив с друзьями и поразмыслив, не могу не прийти к выводу, что вы должны были именно так действовать, и не иначе; и времени было достаточно: ничего еще не было предпринято, прежде чем прыгать.
Он сказал:
— Совершенно верно, я сам всем так говорю: ничего особенного не сделал, чтобы стать Героем… Не возражал, конечно, что присвоили мне это высокое звание, но всегда думал, что сделал так, как сделал бы почти каждый летчик-испытатель.
Сказал он это без тени кокетства, очень просто и убежденно, и я не только утвердился в своем первоначальном впечатлении о нем как о скромном человеке, но и как о несомненном герое.
Очевидно, я это выдал на лице, потому что он тут же благодарно улыбнулся. Словом, обстановка нашего разговора стала еще более теплой. Мне, конечно, хотелось побольше разузнать о командире корабля Молчанове, так торопливо тогда покинувшем машину.
— Он был 1918 года рождения, — ответил Алексей Ильич. — Занимал у нас на заводе пост помощника начальника летной части, отчего сам летал редко… А заторопился потому, — оживился вдруг мой собеседник, — потому что… очень жить хотел!
Я помолчал немного, раздумывая над этим любопытным и, как мне показалось, точным определением.
— И в самом деле, — проговорил я вслух, — нередко именно жажда жизни толкает нас на торопливые и, увы, не самые верные шаги к ее сохранению… Ну а как там у него получилось?.. Говорили тогда, будто бы он головой пробил стекло фонаря, не сбросив его при катапультировании?
— Брехня все это! Фонарь у него сбросился совершенно нормально. Он просто не подтянулся к спинке кресла ремнями перед тем, как нажать рычаг, не зафиксировался, и его сдвинуло с чашки сиденья. Огромным воздушным потоком парашют вырвало из-под него и разорвало в мелкие ленточки…
Мы помолчали, очевидно представив себе состояние человека, падающего с таким парашютом… Потом я спросил:
— Ну а остальные, как было с ними?.. Ведь самолет покинули трое и трое остались с вами?
— Кроме Молчанова, сразу же по его команде катапультировались еще два парня из кормовой кабины. Один из них — радист — опустился вполне благополучно. Другой — опять же виной здесь торопливость — пострадал в силу нелепой случайности… Они катапультировались практически одновременно, чего никак нельзя было делать.
— Так… Ну а те, что остались с вами? Как это они застряли?
Казаков улыбнулся:
— Именно так и получилось. В определенной мере верно сказано: они застряли.
Штурман впереди меня — я отлично это видел — попытался открыть люк над собой, но тот приподнялся чуть и на перекосе заклинил. Потом выяснилось, что штурман не зафиксировал сперва свое кресло для катапультирования, и поэтому не сработали замки люка.
Смотрю я на расщелину между люком и контуром фюзеляжа — она прекрасно видна перед моим стеклом, — а сам уже держусь, как бы в силу инерции, за рычаг катапультного кресла и думаю: "Этот теперь уж точно остался в машине до конца!"
Прошло несколько секунд. Гляжу, он протискивается со своим парашютом ко мне в кабину, где уже вместо правого кресла был пол один, а над ним зияла дыра. Протискивается, а на лице читаю мольбу: "Не оставляй!"


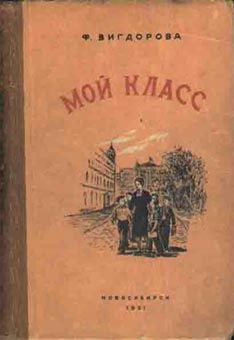

![Игорь Гришин - Мастер Го[Го учит видеть]](/uploads/posts/books/235687/235687.jpg)