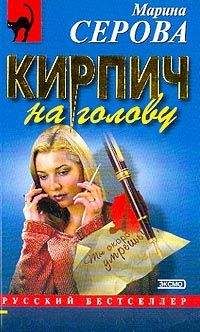Лидия Иванова - Воспоминания. Книга об отце
Отец же в Кремль ходил — в сенат.
Мне на Москве был в детстве ведом
Один, другой священник — брат
Ее двоюродный. По женской
Я линии — Преображенский,
И благолепие люблю,
И православную кутью.
Но сироту за дочь лелеять
Взялась немецкая чета:
К ним чтицей в дом вступила та.
Отрадно было старым сеять
Изящных чувств и мыслей сев
В мечты одной из русских дев.
А девой русскою по праву
Назваться мать моя могла:
Похожа поступью на паву —
Кровь с молоком — она цвела
Так женственно — благоуханно,
Как сердцу русскому желанно;
И косы темные до пят
Ей достигали. Говорят
Пустое все про «долгий волос»:
Разумницей была она
И Несмеяной прозвана.
К тому ж имела дивный голос:
«В театре ждали б вас венки», —
Так сетовали знатоки.
Немало лет прожила моя мать в благочестиво — чопорном, пиетистически — библейском доме престарелой и бездетной четы фон — Кеппенов; хозяин дома, брат известного академика, дерптский теолог, знаток еврейского языка и член Библейского общества, был в то же время главноуправляющим имений светлейшего князя Воронцова. По — немецки моя мать не научилась, — как не одолела никогда и отечественного правописания, — но стала любить и Библию, и Гете, и Бетховена и взлелеяла в душе идеал умственного трудолюбия и высокой образованности, который желала видеть непременно осуществленным в своем сыне. Хотелось ей также, чтобы ее будущий сын был поэт. Не даром в свои долгие девические годы наполняла она вороха тетрадей списанными стихами; кстати сказать, переписывала она что‑то и для молодого Островского и восхищалась «разборами» Белинского, с сестрой которого, по ее словам, водила знакомство. Она была пламенно религиозна; ежедневно, в течение всей жизни, читала Псалтирь, обливаясь слезами; видывала в знаменательные эпохи вещие сны и даже наяву имела видения; в жизнь вглядывалась с мистическим проникновением, но, при живой фантазии, мечтательствовать себе не позволяла и отличалась, по единогласному свидетельству всех, ее знавших, чрезвычайно трезвым, сильным и проницательным умом. Она боготворила царя — освободителя, была счастлива тем, что родилась в девятнадцатый день месяца февраля (1824), ненавидела нигилизм и отчасти славянофильствовала с оттенком либеральным, каковая приверженность идее славянства сказалась и в выборе моего имени. Помню, что в детстве заезжал к нам раз толстый барин, в голубой шелковой русской рубахе (по фамилии, кажется, Нащокин), и мы ездили с ним куда‑то в его карете, а потом мать объясняла мне, что это — «славянофил».
По смерти своих стариков мать моя уже не собиралась замуж, — ей было почти сорок лет, — а жила уединенно с нашею Татьянушкой:
Моей старушка стала няней,
И в памяти рассветно — ранней
Мерцает облик восковой.
Кивает няня головой, —
«А возле речки, возле моста —
Там шелкова растет трава…»
Седая никнет голова.
Очки поблескивают просто…
Но с детства я в простом ищу
Разгадки тайной — и грущу…
С Украйны девушкой дворовой
В немецкий дом привезена,
Дни довлачив до воли новой,
Пошла за матерью она.
Считала мать ее святою;
Ее Украйна золотою
Мне снилась: вечереет даль,
Колдует по степи печаль…
Тогда пришел к моей матери с обоими своими малолетними сыновьями отец мой, оставшийся вдовцом по смерти первой жены, незадолго до того покинувшей его и детей. Мать ее давно знала, пользовалась ее доверием, корила ее за легкомыслие и выслушивала ее жалобы на гордость, замкнутость, деспотизм отца, на его неуменье обеспечить семье достаток. Мальчики стали перед матерью на колени и просили ее «быть им мамой». Предложение было неожиданным, но она согласилась. Через год — 16 февраля 1866 года — я родился в собственном домике моих родителей, почти на окраине тогдашней Москвы, в Грузинах, на углу Волкова и Георгиевского переулков, насупротив ограды Зоологического сада.
Я с любовью отмечаю эти места, потому что с ними связаны первые впечатления моей жизни, сохраненные памятью в каком‑то волшебном озарении, — как будто тот слон, которого я завидел из наших окон в саду, ведомого по зеленой траве важными людьми в парчевых халатах, и тот носорог, на которого я подолгу глазел сквозь щели ветхого забора, волки, что выли в ближайшем нашем соседстве, и олени у канавы с черною водой, высокая береза нашего садика, окрестные пустыри и наш бело — пушистый дворик,
… седой, как лунь,
Как одуванчик — только дунь, —
остались навсегда в душе видениями утраченного рая. Бывал я по летам и в деревне, у сестер отца, живших в имениях своих мужей; но и сельские картины не могли затмить в моей душе красот однажды виденного Эдема.
Простудившись в пору моего появления на свет, отец мой бросил свое ремесло землемера и, лишь спустя значительный промежуток времени, поступил на службу в Контрольную Палату. Он был счастлив досугом, затворился в своей комнате —
И груду вольнодумных книг
Меж Богом и собой воздвиг…
И все в дому пошло неладно:
Мать говорлива и жива,
Отец угрюм, рассеян, жадно
Впивает мертвые слова —
И сердце женское их ложью
Умыслил совратить к безбожью.
Напрасно! Бредит Чарльз Дарвин;
И где ж причина всех причин,
Коль не Всевышний создал атом?
Апофеоза «протоплазм»
Внушает матери сарказм:
Назвать орангутанга братом —
Вот вздор! Мрачней осенних туч,
Он запирается на ключ.
Заветный ключ! Он с бранью тычет
Его в замок, когда седой
Стучится батюшка и причет —
Дом окропить святой водой.
Вы — Бюхнер, Молешотт и Штраус,
Товарищи недельных пауз
Пифагорейской тишины,
Одни затворнику верны, —
Пока безмолвия твердыня,
Веселостью осаждена,
Улыбкам женским не сдана.
Так благость Божья и гордыня
Боролись в ищущем уме:
Отец мой был не sieur Homais, —
Но века сын! Шестидесятых
Годов земли российской тип,
«Интеллигент», сиречь проклятых
Вопросов жертва — иль Эдип;
Быть может, искренней, народней
Других и про себя свободней:
Он всенощной от юных лет
Любил вечерний, тихий свет…
Но ненавидел суеверье
И всяческий клерикализм;
Здоровый чтил он эмпиризм:
Питай лишь мать к нему доверье,
Закон огня открылся б мне,