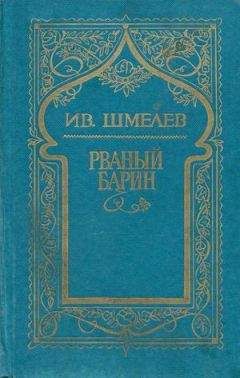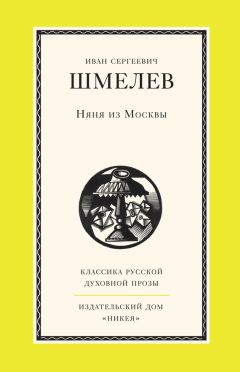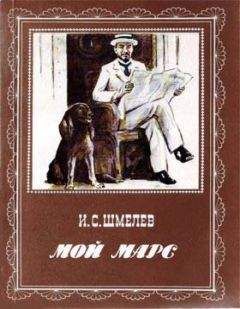Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание
Житейским страстям человека, собственному отчаянию Шмелев противопоставил чудесное спасение. Рассказ был опубликован в «Возрождении». В нем говорится о взаимосвязи всего сущего и о таинственном, которое происходит с человеком и которое нельзя объяснить. Герой рассказа, естественник по образованию, Петр Иваныч вынужден был все-таки поверить в то, что «там бухгалтерия особая». Петр Иваныч, чревоугодник-эстет, и его знакомый Спирток отправляются в соседнюю Копылевку на кулебяку. Неожиданно из-за взлобка навстречу саночкам высыпает стая зайцев, что было недобрым предзнаменованием: «И что-то в ихнем гоне показалось мне жуткое, зловещее… что-то их пугануло где-то». Далее события развивались вдруг: путников накрывает степной буран, тьма, заметалась поземка, побежали снежные вьюнки, сечет ветер, и героя охватывает мистическое чувство и недоумение, оттого что так и не успел все обдумать и разрешить — о Боге, о бытии, о будущем. Герой потерял не только дорогу, но и чувство времени, его пробирает жуть при мысли о том, что за пределами земного существования — ничто. Он засыпает и во сне слышит благовест, просыпается и уже наяву слышит колокольный звон. Продрогший возница выволакивает лошадей на край оврага, путники бредут на звуки и оказываются у церкви села Воздвиженки, видят огонек свечи в окне поджидающего их попика Семена. С батюшкой также происходит чудесное: во сне трижды он слышит глас в нощи, который велит звонить в колокол сбившимся с дороги путникам. Петр Иваныч после произошедшего понимает неопровержимую истину: «…нет никаких этих там и здесь, а все — едино все связано, все в Одном».
Вслед за этим рассказом в «Возрождении» 1 мая был опубликован «Свет вечный. Рассказ землемера», который Шмелев посвятил Ильину. 31 мая 1937 года Ильин написал автору: «Сколь прекрасен Ваш „Свет Вечный“, помещенный в Возрождении! Спасибо за посвящение. Какие слова там, какая собранность! Очень хорошо»[468]. Размышляя о неведомых людям и объединяющих их связях, рассказчик поведал о трагедии, вознесенной над земными страданиями. Герой рассказа — волевой, правильный, религиозно строгий мужик Упоров: «Мужик серьезный, богатырь, глаза воловьи, с голубинкой. Напомнил Александра III — русой бородой, залысиной, всем обликом, спокойствием солидным. Проседь в бороде». Рассказчик — землемер, с астролябией объехавший всю Россию, но узнавший ее только после знаменательной встречи с Упоровым. Знакомство состоялось до войны: землемеру пришлось заночевать в доме Упорова. Следующая встреча произошла весной 1922 года. Оба они, а также сын Упорова Андрей, оказались арестантами. Вина Упорова состояла в том, что он препятствовал изъятию церковных ценностей, поднял мужиков на бунт. Находясь в заключении, герой втолковывал землемеру мысль о том, что всех мужиков все равно не извести: «Котел наш крепкий, всех не изведешь, заварим. Смоем грех». Тогда землемер и увидел свет в его глазах — это был свет вечный, хотя земная жизнь Упорова и его сына закончилась, «их взяли ночью». Свет вечный в обреченном на гибель человеке — чудо, побеждающее смерть, и эта мысль, несомненно, была внушена ему и не оставлявшей его Ольгой Александровной, и Ильиным, по мнению которого этот рассказ, опубликованный в пасхальном номере, превзошел все другие материалы, составившие выпуск.
Неземная мудрость Ольги Александровны была сродни пушкинской. Так думал Шмелев. Он обратился к Пушкину и именно в нем нашел путь к спасению. Крайне нуждавшийся в мощных духовных толчках, Иван Сергеевич принял юбилейные пушкинские чествования как события личной судьбы, этап собственного духовного поиска и возрождения.
В январе 1937 года в «Добровольце» появилась его статья «Сынам России», посвященная столетию кончины Пушкина — выразителя «русской духовной сущности». Пушкин в условиях эмиграции оказался моральной и этической мерой: он бы, полагал Шмелев, благословил подвиг добровольчества. 11 февраля Шмелев вместе с Карташевым и Мережковским выступил на торжественном заседании Пушкинского комитета. Его речь показала, что пророческая суть Пушкина для него — аксиома, что подлинную свободу он считал высшей ценностью в мировоззренческих позициях поэта. Вслед за Достоевским он говорил о всемирности Пушкина. Он утверждал: Пушкин воспел имперскую Россию и в то же время Пушкин спаян с родным народом. Через десять лет, в 1947 году, писатель, познакомившись с иллюстрациями Александра Николаевича Бенуа к «Медному всаднику», выразил художнику свои ощущения от его работы: тут Пушкин, певец Петра, предъявляет иск Петру от имени народа, потому он национален. Его впечатлила творческая интуиция Бенуа. В речи Шмелева особый, сущностный, смысл обрела мысль о том, что Пушкин — мерило русского языка, раскрывающего духовные богатства народа, а у духовно бедного народа и язык бедный. Эта речь была доработана для польских казаков и опубликована в варшавском «Русском слове» 22 февраля.
Вчитываясь в Пушкина, Шмелев в хрестоматийных, с детства знакомых стихах находил ответы на свои проклятые вопросы. Так, 14 марта 1937 года он написал Ильину о Пушкине и о своих исканиях истины:
Он — сложный. Но он — сущность наша. Но… не могу установить, — что это — и в чем главное, у него: «и милость к падшим призывал»! Ведь тут ключ к сущности нашей культуры: милосердие, сострадание к человеку, к душе человека, — ведь это в гл<авном> русле нашей духовности и душевности, это основа нашей культуры, святая свят<ых>, от истоков, от Слова Божия. Это, несомн<енно>, у П<ушкина> есть, но я не могу нащупать. Есть в Медн<ом> Вс<аднике>… — вижу. Но где еще? Боюсь, что я не осилю[469].
Шмелев просил переслать для него речь Ильина о Пушкине, произнесенную в Риге, и через Ильина надеялся «осилить» философский и пророческий потенциал великого поэта. Но и Ильин не может Пушкина воспринять как свод ясных пророчеств, а речь его о Пушкине — лишь начало, все равно что дверь открыть… И он тоже размышляет, угадывает. Ему, например, думается, что мотив милости к падшим не есть естество Пушкина. Ильин сам ищет помощи в понимании Пушкина, и ему кажется, что проницательней всех поэта чувствовал Гоголь.
В жизни Шмелева наступил такой период, когда многое, им прочитанное, продуманное, пережитое, соизмерялось с Пушкиным. В Прощеное Воскресенье, в самом начале Великого Поста, когда без десяти полночь и за окном буря, он читал покаянный тропарь «Покаяния отверзи ми двери…», он восхищался высотой и выразительностью образов, ощущал ничтожность, бессилие человека, неспособного сотворить, высказать подобное… и опять вспоминал Пушкина. А он мог, а он глубок. Шмелева поражает «Монастырь на Казбеке» (1829):