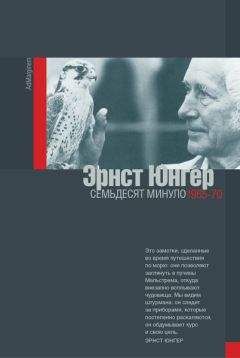Эрнст Юнгер - Излучения (февраль 1941 — апрель 1945)
Потом дождевики, эти потрескавшиеся шары, коричнево-желтые баллоны или раздутые в своей верхней трети бокалы, заселившие обочины по-осеннему тихих дорог. В период зрелости на их макушке образуется родничок, через который выбегают нежные споры. Эти существа целиком уходят в семя, в плодоношение и в качестве индивидуальных отходов оставляют только пергаментную кожицу. Их можно рассматривать также как мортиры, стреляющие огнем жизни. В этом смысле они были бы неплохим украшением на могилах или на гербах благотворительных людей.
Париж, 1 ноября 1943
Начало ноября. Спал беспокойно; во сне блуждал по разрушенному Ганноверу, ибо мне пришло в голову, что в своих заботах о жене и детях я забыл про бабушку и про ее маленькую квартирку, которая все еще находилась на Краузенштрассе.
Париж, 5 ноября 1943
Вечером у супругов Дидье. Там встретил Хендрика де Мана, бывшего бельгийского министра; он дал мне отпечатанную, но неизданную рукопись о мире.
Поговорили о Лейпциге, где он жил до первой мировой войны, сотрудничая в социал-демократической «Фольксцайтунг».[220] Удивительна схожесть друг с другом всех этих старых социалистов, которые тогда считались революционерами. По сути своей это был новый слой блюстителей порядка, вытесненный наверх во время родовых мук рабочего государства. Путь от чиновника до функционера или, говоря словами Карла Шмитта, от легитимности до легальности напоминает переход от иератического письма к демотическому. Это проявляется и в физиогномике. К таким типам принадлежат Макдональд в Англии и Винниг в Германии.
Париж, 8 ноября 1943
Завтрак у Флоранс. Там Геллер рассказал мне о двойнике, который якобы есть у меня и который схож со мной жестами, голосом и почерком. В этом случае должно наличествовать и кровное родство.
Мари-Луизе, всегда забывающей даты:
— Мари-Луиза, Вы, конечно, не помните дня рождения своего мужа?
— Да, но зато я не забываю день его смерти.
Возражение точное, ибо благодаря смерти, как я знаю это по своему отцу, мы окончательно обручаемся с человеком.
Речи Кньеболо напоминают теперь собрание, на котором банкрот, чтобы выиграть время, уверяет кредиторов, что расплатится с ними фантастически щедро.
Думаю, что и теперь есть такие, кто недооценивает его ужасающую гигантоманию.
Париж, 9 ноября 1943
Сегодня закончил переписывать воззвание. Хотелось бы знать, какая судьба ожидает эту работу. Леону Блуа, пожалуй, понравится, что она направлена «против всех». Расцениваю как добрый знак, что она мне вообще удалась.
Париж, 10 ноября 1943
После полудня разговор со Шнатом, который едет в Ганновер. Большая часть его архива также погибла в пожаре вместе с реестрами, так что остатки документации превратились в гору неподвижной бумажной массы. Мы поговорили о размещении его сокровищ в калийных рудниках. Сухость там столь велика, что нитки, которыми скрепляются стопки бумаг, делаются ломкими. На поверхность пачек, кроме того, оседают кристаллы соли, при транспортировке притягивающие воду. Страдания архивариусов из-за пожаров особенно велики.
Вечером у Омона, мелкого издателя на рю Буассонад, одержимого типографской манией. С ним и Геллером поговорили о Князе Лине, книгу которого он печатает. Потом зашел д-р Гёпель, принесший мне работу Хюбнера о Иерониме Босхе. Мы отправились к «Викингам» и отужинали там в компании поэта по имени Берри, посвятившего Гаронне поэму размером свыше шести тысяч стихов. Один из них, который он процитировал в перерыве между двумя глотками вина, звучит так:
Mourir n’est rien, il faut cesser de boire.[221]
И в остальном он был не промах — так, в честь нашей единственной сотрапезницы, пришедшей с Омоном, он все порывался сочинить дерзкий диалог, в котором одна из ее грудей вступала в спор с другой. Я нашел эту идею не совсем подходящей предмету, в коем симмертия восхищает несравненно больше, чем диссонанс.
Париж, 13 ноября 1943
Утром меня навестила фрау Эрцен, старшая медсестра Красного Креста, пришедшая ко мне как читательница. Мы обменялись тайными знаками, по которым сегодня узнаешь друга друга. Говорили о ее поездках, — она ездит по всем фронтам и оккупированным территориям. Потом о Ветхом и Новом Завете. Она сказала, что если бы ей позволили взять с собой две книги, одной из них была бы Библия. А второй? У меня бы это была «Тысяча и одна ночь». Стало быть, дважды Ближний Восток.
После полудня с Мари-Луизой у Мари Лорансен; у нее на верхнем этаже дома на рю Саворньян-де-Бразза студия, похожая на кукольную комнату или на сад доброй сказочной феи. В ней царит ее любимый цвет, светло-зеленый, чуть-чуть перемешанный с розовым. Мы рассматривали иллюстрированные сборники сказок, прежде всего те, которые вышли в Мюнхене во второй половине прошлого века.
Как я узнал, F. s[222] в Бухаресте проявляют большевистские наклонности. Это плохой знак для Кньеболо. Его бицепс теряет свой шарм.
После полудня с докторессой в Версале, где бродили под дождем по длинным, одиноким аллеям. Возвращались из Трианона в город почти в темноте. Краски, которые едва угадывались в тумане, не сможет передать ни один художник: легкое дыхание розовой, следы желтой и красно-коричневой ныряли в ночь, словно разноцветные морские животные возвращались в свои раковины и на прощанье раскрывали тайну своего великолепия.
Париж, 15 ноября 1943
Завтрак у Флоранс. Одного писателя, особую значительность придающего общим местам, Кокто окрестил «придонной морской рыбой» — «une limande des granes profondeurs».
После полудня, подобно Петеру Шлемилю, ко мне проник Хуссер. Он принес «Историю испанского заговора против Венеции».
Обсуждение ситуации; на это время я теперь всегда снимаю телефонную трубку. В разговоре он упомянул место из «Истории Карла XII» Вольтера, где говорится, что если кто-нибудь борется с коалицией сильных противников, то его едва ли можно уничтожить до конца. Да, но прежде он попадет в котел.
Потом о католическом священстве. Хуссер полагает, что нигилизм проявляется здесь в виде разногласий с наукой.
Париж, 16 ноября 1943
После полудня зашел Морен; он сообщил мне о смерти своего отца и в связи с этим попросил о помощи. Меня снова поразило, сколь искусно француз уже в молодом возрасте умеет устраивать свои дела. Он помещается в самом их центре, тогда как молодой немец либо пребывает вне круга своих интересов, либо бесцельно по нему блуждает. Его развитие по сравнению с французом более элементарно-хаотично, оно несет в себе больше непредсказуемости. При таких сравнениях мне всегда приходит на ум разница между Мольером и Шекспиром и в связи с нею — мысль: нельзя ли на этих колоссах воздвигнуть высокоразвитое человечество, воплощение нового порядка, которое слагается из противоположностей, — из центробежной силы и закона тяготения?
Вечером в Немецком институте. Там встретил скульптора Брекера с его женой-гречанкой, кроме них — фрау Абец, Абеля Боннара и Дриё ла Рошеля, с которым в 1915-м обменивался выстрелами. Это было у Ле-Года, в том месте, где погиб Германн Лёне. Дриё тоже вспомнил колокол, отбивавший часы; мы оба его слышали. И при этом купленные писаки, субъекты, которых голыми руками не возьмешь. Все это тушится в рагу из любопытства, ненависти и страха, и на лбу у некоторых уже проступает стигмат ужасной смерти. Я вступаю в стадию, когда вид нигилистов для меня физически непереносим.
Париж, 18 ноября 1943
До полудня разговор с Баргацки, вторым читателем воззвания. Мы обсуждали возможность тайного тиража rebus sic stantibus.[223] Я подумал при этом об Омоне и о переводе, который мог бы сделать Анри Тома при условии, если к нему обратится Геллер.
После полудня пришел Циглер и сообщил о жестоких бомбардировках. Люди задыхались в горящих кварталах отчасти из-за недостатка воздуха, кто-то погиб оттого, что в подвалы проникнул угарный газ. Благодаря этим подробностям число жертв становится понятным. Подобно описанию Плиния, изображающего гибель Помпей, чудовищное облако золы превратило день в ночь, так что Циглер, собравшись писать письмо жене, зажег свечу.
Великие огневые точки. Пророки светят на них извне, апостолы — изнутри.
Париж, 20 ноября 1943
Крамер фон Лауэ принес мне еще одну книгу Шубарта. Наполеон, Ницше и Достоевский рассматриваются в ней как три главные фигуры XIX века, — в триптихе, где по обе стороны от великого преступника расположены разбойник злой и разбойник благоразумный.