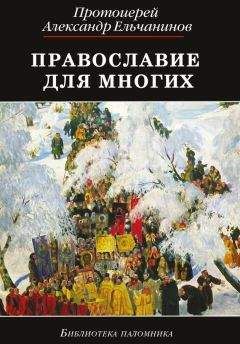Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи
Вскоре после трагической для меня ночи вернулся из Красноярска папа. Я не смогла к нему ринуться со всегдашней открытой любовью. «Что с тобой?» — спросил он, целуя меня и пытаясь заглянуть в глаза. Я зажмурилась и уклончиво ответила: «Ничего». — «Что с ней?» — строго и тревожно спросил он маму. Она ответила: «Больна. Все время к вечеру температура. Ничего не могу понять. Надо сделать рентген».
К моему удивлению и облегчению рентген показал затемнение в правом легком. Я с гордостью держала в руках большой полупрозрачный лист с его изображением. Оно давало мне право на болезнь, на безответственность перед жизнью. Как рано мне понадобилось подтверждение этого права!
Вижу нас с мамой в кабинете врача в детской поликлинике на Большой Молчановке: кабинет занимает высокий светлый эркер пятиэтажного дома, облицованного, как многие «доходные дома» начала века в наших переулках, как и наш дом, светлым кафелем. В июле 1941 года с крыши нашего дома мы будет определять силу окрестных пожаров по отблескам пламени на кафельных стенах детской поликлиники. А в 1936 году доктор там рассматривает на свет снимок моих легких. «Ребенка нужно везти в Крым. И, конечно, хорошее питание. Очень хорошее», — внушает врач маме. Мама плачет. «Почему вы плачете?» — строго спрашивает доктор. «У меня трое детей. Я не могу отвезти ее в Крым». — «Но зачем же плакать? В конце концов, отвезите ее просто в деревню, на свежий воздух. Пусть ест регулярно пять раз в день. И два раза в день — отдых в кровати. Полностью раздеться, как на ночь. Тело человека только так отдыхает. И перестаньте плакать. Дети с такой грудной клеткой не умирают».
Хотя я по-прежнему хочу быть больной, меня, конечно, успокаивает то, что я не умру, а маме в общем-то не надо плакать. Но, увы, я и злорадствую: поплачь, поплачь, теперь ты поплачь.
Какие болезненные искажения вносят в детскую психику семейные драмы! Беда не столько в ранних страданиях, но в рожденном ими эгоизме. Я точно знаю, что весной 1936 года исчезла та самоотверженная девочка, готовая лечь костьми за своих близких, а появилось другое, очень двойственное, замкнутое существо, знающее, что будет правильно лечь костьми за близких, но отказавшееся от полной, безоглядной самоотверженности. Меня не пожалели, так и я не обязана всех жалеть. Нет, я, конечно, вас пожалею, но и себя не забуду. Мне-то рассчитывать не на кого. Вы моих страданий не знаете и никогда не узнаете. Я отворачиваюсь от ваших страданий.
Я не могу, конечно, ручаться, что в двенадцать лет я так отчетливо сознавала перемену в собственной психике. Может быть, такая перемена произошла в течение всех лет нашей семейной драмы. Но началась эта перемена во мне в январе тридцать шестого года. Это точно.
Я по-прежнему плохо спала и чутко прислушивалась к ночным разговорам родителей. Казалось, все было мирно и покойно между ними. Значит, может быть и так? Мама говорила, лежа в постели, папе: «Ты заметил, какой хорошенькой становится наша младшая дочь? Какие глаза? А ресницы!» Папа отвечает: «Да и старшая ничего». Мама соглашается, но с оговоркой: «Ничего. Зубы выросли красивые, улыбка хорошая. Но красок не хватает». — «Она же больна», — защищает меня папа. Я же мотаю на ус: красок не хватает, а зубы красивые. Сама себя я ощущаю несчастно-некрасивой: высока, худа, бледна, косички тоненькие… Вот разве что зубы? Я начинаю их чистить три раза в день.
17Последнее наше общее семейное лето, лето 1936 года, как ни странно, было радостным и праздничным. С нами в Головково сначала приехала Наталия Алексеевна Маклакова с мальчиками, где-то возле них поселили Андрея Туркова, недавно лишившегося бабушки (впрочем, Андрея скоро отправят в экзотический для нас Артек), в том доме, где мы жили в тридцать пятом году, теперь обосновалась Анна Ивановна Волкова с семилетней дочерью Галей, мы же сняли совсем другую избу, где ничто не напоминало о прошлогодней грусти.
Я приехала в Головково слабой и по-прежнему соблюдавшей режим тяжело больной. Но попробуй, соблюдай его в деревне! Чем здесь кормиться лишний раз, когда и обыкновенный обед часто сварить не из чего? Нас спасало хозяйское молоко. Неизменная глиняная крынка молока сопровождала наши скудные трапезы. Я к тому же ровно в пять часов вечера лезу в подпол и достаю оттуда противное месиво из сала, меда и какао, и, разведя его горячим молоком, с отвращением, но послушно глотаю жирную приторную жидкость. Она должна спасти мои легкие. Я и не подозреваю, с какой завистью смотрят на мое пойло младшие дети! Узнала об этом совсем недавно.
В первые дни в Головкове мама еще говорит мне: «Пойди и приляг на сеновале». Но не будешь же, как велел врач, каждый раз снимать с себя необременительный сарафанчик при настежь открытой двери сарая? Из экономии мы снимаем избу очень бедную. Зато крайнюю в деревне. Зато прямо за домом — поле, а за ним густой еловый лес, зато вниз от сарая — луг, спускающийся к ручью, зато через дорогу от дома — церковь и кладбище. Не так уютно, как было в Сертякине, но кругом простор и воля. С ветхого крыльца избы далеко-далеко все видно, и по вечерам мы следим за редкими поездами: они, словно вереница муравьев, прочерчивают своим движением прямую линию за лугами на горизонте. Вот прошел вечерний на Ленинград, а вот местный, дачный, на Клин, на нем под выходной приезжает к нам папа. Мама же любит провожать взглядом далеко за полночь ярко освещенную Красную Стрелу. Мама, знающая наизусть Пушкина и Достоевского, никогда не была в Ленинграде. Поехать туда — ее невыполнимая мечта, она осуществится только в старости. Да и где они бывали, наши бедные родители!
Лето тридцать шестого жаркое и сухое. Через несколько дней по приезде мы совсем перебираемся из душной избы спать на сеновал. Вымоем ноги в ледяной Истре, плеснем из нее же в лицо, сунем загрубелые, постоянно босые ноги в непривычные жесткие туфли и гуськом, по росистому лугу, устланному полосами вечернего тумана, идем в наш сарай, где расстелены на сене постели. Как сладко засыпать, глядя на звезды через разрушенную крышу другой половины нашего ветхого убежища!
Не прошло и двух недель деревенской жизни, как я почувствовала себя другим человеком. Однажды я вдруг вскочила на оставленную в поле пустую распряженную телегу и стала на ней отплясывать. И услышала, как мама тихо сказала Анне Ивановне: «Кажется, она поправляется…» А я просто поправилась.
Мне кажется, что я была уже здорова к 18 июня. Был очередной выходной день, было солнечное затмение, и умер Горький. В то утро папа привез из Москвы известие о смерти Горького. Вот я и запомнила дату. Папа же закоптил нам тогда стеклышки (использованные фотопластинки), чтобы глядеть на солнце. Мы все стояли на лугу за домом и смотрели на небо. «Вот и солнце скорбит о Горьком», — вздохнув, сказал папа. «Ты лучше бы оплакал своего любимого Бухарина, кажется, приходит время это сделать», — тихо заметила мама и обидно засмеялась. Папа промолчал.