Стефан Цвейг - Вчерашний мир
В беседах того вечера и последующих дней меня глубоко трогала его тихая грусть, которая окрашивала каждое его слово, та же печаль, которая звучала у Рильке, когда он говорил о войне. Он был полон горечи от действий политиканов, людей, которым для удовлетворения своего национального тщеславия было все еще недостаточно жертв. Но вместе с тем всегда ощущалось сострадание к несметному числу тех, кто страдал и умирал за "идею", которая им самим была непонятна и на самом деле была просто бессмыслицей. Он был полон решимости независимо, авторитетом собственной личности служить делу, которому он поклонялся, - сплочению народов. Так же как он не требовал ни от кого следования своим идеям, он отказывался от любого обязательства. Он признавал право всех на нравственную свободу и сам подавал пример в меру своих сил, оставаясь свободным и верным своему убеждению даже наперекор целому миру.
* * *
В Женеве в первый же вечер я познакомился с небольшой группой французов и других иностранцев, которые объединились вокруг двух небольших независимых газет: "Ля фёй" и "Демэн", - П. Ж. Жувом, Рене, Франсом Мазерелем[191]. Мы сблизились с таким воодушевлением, какое обычно присуще молодости. Но инстинктивно мы чувствовали, что стоим на пороге совсем иной жизни. Большинство наших старых связей из-за "патриотического" ослепления прежних товарищей распалось. Нужны были новые друзья, а поскольку мы находились на одном "фронте", в одном идейном стане против общего врага, то стихийно между нами возникло некое страстное содружество; буквально через день мы настолько доверяли друг другу, словно были знакомы годы, и, как водится на фронте, обращались друг к другу на братское "ты". Подвергаясь личной опасности, мы все - "we few, we happy few, we band of brothers" [192] ощущали также беспрецедентную дерзость нашего совместного пребывания: мы знали, что в пяти часах пути отсюда каждый немец, который выследил француза, каждый француз, который выследил немца и заколол его ударом штыка или разорвал на куски ручной гранатой, получал за это награду; что миллионы и там и тут мечтали лишь о том, чтобы уничтожить друг друга и стереть с лица земли, что газеты писали о "противнике" лишь с пеной ненависти у рта, в то время как мы, крохотная горстка среди многих миллионов, не только мирно сидели за одним столом, но и ощущали самое неподдельное, осознанное братство. Мы знали, что тем самым противопоставляем себя всему официальному и приказному, мы знали, что, открыто заявляя о верности нашей дружбе, подвергали себя опасности, исходившей со стороны наших государств; но именно опасность нашего дерзновенного содружества приводила нас чуть ли не в восторг. Мы шли на риск и наслаждались ощущением этого риска, ибо сам он придавал нашему протесту особый смысл. Так, я (факт уникальный в этой войне) публично выступал вместе с П. Ж. Жувом в Цюрихе - он читал свои стихи по-французски, я отрывки из моей драмы "Иеремия" - по-немецки; но, именно открыв свои карты, мы показали, что были честны в этой смелой игре. Что об этом думали в наших консульствах и посольствах, нам было безразлично, даже если мы, подобно Кортесу, сжигали тем самым корабли для возвращения. Ибо до глубины души были проникнуты убеждением, что "предатели" не мы, а те, кто гуманистическое предназначение поэта готов в любую минуту предать. А как самоотверженно они жили, эти молодые французы и бельгийцы! И среди них Франс Мазерель, который своими гравюрами на наших глазах, запечатлевая на дереве ужасы войны, создал непреходящую художественную память о войне - эти незабываемые черно-белые листы, по силе и страсти не уступающие даже "Desastros de la guerra" [193] Гойи. День и ночь неустанно резал этот мужественный человек фигуры и сцены на немом дереве; узкая комната и кухня накопили горы этих деревянных дощечек, но каждое утро "Ля фёй" публиковала какое-нибудь новое из его обвинений в рисунке, и каждый рисунок возлагал вину не на тот или другой народ, а на нашего общего врага - войну. Как мы мечтали, чтобы их можно было сбрасывать с самолетов вместо бомб, как листовки, над городами и окопами, эти без слов, без знания языка понятные каждому, даже самому непонятливому, гневные, ужасающие, клеймящие позором разоблачения; они - я убежден в этом - сократили бы время этой войны. Но, к сожалению, они появлялись лишь в небольшой газетке "Ля фёй", которая почти не была известна за пределами Женевы. Все, что мы говорили и пытались предпринять, замыкалось в тесном швейцарском кружке и могло оказать влияние только тогда, когда уже было поздно. В душе мы не обольщались относительно наших возможностей в борьбе против механизмов генеральных штабов и политических ведомств, и если нас не преследовали, то, скорее всего, потому, что мы, подавленные, как наше слово, скованные, как наша инициатива, не могли быть опасны. Но именно то, что мы знали, как мы малочисленны, как одиноки, сплачивало нас теснее - плечо к плечу, сердце к сердцу. Никогда впоследствии, в зрелые годы, я не наслаждался дружбой с такой полнотой, как тогда в Женеве, и эта дружба выдержала испытание временем.
* * *
С психологической и исторической точек зрения (но не с художественной) примечательнейшим явлением в этой группе был Анри Гильбо; в нем я более убедительно, чем в ком бы то ни было другом, видел подтверждение непреложного закона истории, гласящего, что в эпохи стремительных переворотов, в частности во время войны или революции, стойкость и отвага зачастую стоят больше, чем интеллектуальные достоинства, а пылкое гражданское мужество может быть более решающим, чем характер и твердость. Всегда, когда время стремительно летит вперед и обгоняет самое себя, натуры, которые способны без всяких колебаний броситься в волны, побеждают. И как много, по сути дела, эфемерных субъектов вынесло, опережая самое себя, оно тогда - Бела Кун, Курт Эйснер[194] - на должности, до которых нравственно они не доросли! Гильбо, тщедушный, светловолосый человечек с колючими, бегающими серыми глазами и неплохо подвешенным языком, не был талантлив. Хотя именно он перевел лет за десять до того мои стихи на французский язык, я должен честно сказать, что его литературные способности были невелики. Выразительность его языка была вполне заурядна, знания неглубоки. Его сильной стороной была способность к полемике. По складу своего характера он относился к тем людям, которые всегда "против" - все равно против чего. Он чувствовал себя хорошо лишь тогда, когда мог сражаться со всеми как настоящий гамен и с ходу набрасываться на то, что превосходило его самого. До войны в Париже он то и дело - и это несмотря на свою в общем добродушную натуру - напропалую полемизировал в литературе как с целыми направлениями, так и с отдельными лицами, затем подвизался во всех радикальных партиях, и ни одна из них не оказалась для него достаточно радикальной. Но вот во время войны он как антимилитарист неожиданно обрел гигантского противника: мировую бойню. Нерешительность, трусость большинства и опять-таки его отвага, безрассудная смелость, с которой он бросился в бой, на какое-то мгновение сделали его в мире видным и даже незаменимым. Его влекло как раз то, что других отпугивало: опасность. И то, что он оказался намного бесстрашнее других, придало этому, по существу, незначительному литератору внезапную величину и возвысило его публицистические, его бойцовские способности - феномен, который можно обнаружить и в эпоху Французской революции в судьбе дотоле невидных адвокатов и юристов Жиронды[196]. В то время как другие молчали, в то время как и мы колебались и по каждому поводу тщательно взвешивали, что делать, а где и выждать, он решительно брался за дело, и неотъемлемой заслугой Гильбо останется то, что он руководил основанным им же, единственным во время первой мировой войны имевшим влияние антивоенным журналом "Демэн" - тем документом, который, хотя бы постфактум, должен прочесть каждый, кто хочет по-настоящему понять духовные течения той эпохи. Он, отвечая нашим нуждам, явился центром интернациональной, наднациональной дискуссии в разгар войны. То, что за ним стоял Роллан, определило значение журнала, ибо благодаря моральному авторитету и связям писателя журнал мог привлечь к сотрудничеству в нем виднейших представителей Европы, Америки и Индии. С другой стороны, находившиеся еще в ту пору в эмиграции революционеры из России - Ленин, Троцкий и Луначарский - прониклись доверием к радикализму Гильбо и регулярно писали для "Демэн". Таким образом, в мире в течение года-полутора не было более интересного, более независимого журнала, и если бы он пережил войну, то стал бы, возможно, определяющим по воздействию на общественное мнение. Одновременно Гильбо взял на себя в Швейцарии представительство радикальных французских групп правых, которых Клемансо жестокой рукой лишил возможности действовать. На знаменитых конгрессах в Кинтале и Циммервальде, где социалисты, верные интернационализму, отмежевывались от нежданных патриотов, он сыграл историческую роль; ни одного француза, даже того капитана Садуля[197], который перешел в России к большевикам, в парижских политических и военных кругах во время войны не опасались и не ненавидели так, как этого светловолосого человечка. В конце концов французской контрразведке удалось устроить ему ловушку. В гостинице в Берне из комнаты немецкого агента были выкрадены листы промокательной и копировальной бумаги, которые доказывали - разумеется, не больше того, что германская разведка выписала несколько экземпляров "Демэн" - сам по себе безобидный факт, так как эти экземпляры, вероятнее всего, при немецкой дотошности, предназначались различным библиотекам и ведомствам. Но для Парижа это сочли достаточным поводом, чтобы объявить Гильбо купленным Германией агитатором и привлечь его к ответственности. Он был приговорен in contumaciam [198] к смерти - более чем несправедливо, что, собственно, и подтверждает тот факт, что спустя десять лет этот приговор был отменен на кассационном процессе. Но вскоре, помимо этого, он из-за своей резкости и нетерпимости, постепенно становившихся опасными и для Роллана, и для нас всех, вступил в конфликт со швейцарскими властями, был арестован и заключен в тюрьму. Спас его только Ленин, который испытывал к нему личную склонность, а также в благодарность за оказанную в тяжелейшее время помощь, одним росчерком пера превратив его в гражданина России и позволив ему во втором запломбированном поезде прибыть в Москву. Теперь, пожалуй, он мог бы развернуться во всю свою мощь. Ибо в Москве ему, имевшему за плечами все заслуги настоящего революционера, тюрьму и смертный приговор in contumaciam, во второй раз были предоставлены все возможности действовать. Но на самом деле оказалось, что Гильбо был отнюдь не прирожденным вождем, а лишь, как многие поэты периода войны и политики революции, рыцарем на час; такие раздвоенные натуры после неожиданных взлетов в конце концов уходят в самих себя. В России, как в свое время в Париже, неизлечимый спорщик, он растратил свои способности на мелкие перебранки и склоки и постепенно испортил отношения даже с теми, кто уважал его смелость, - сначала' с Лениным, а затем с Барбюсом и Ролланом и в конце концов со всеми нами. Как в Женеве благодаря поддержке Роллана, в России благодаря доверию Ленина он мог бы сделать много положительного в строительстве новой жизни; с другой стороны, в силу проявленного им во время войны мужества едва ли кто-нибудь другой после войны был предназначен играть во Франции решающую роль в парламенте и обществе, так как все радикальные группы видели в нем настоящего, активного, мужественного человека, прирожденного вождя. Он кончил, когда все улеглось, как и начал: не заслуживающими внимания брошюрами и никчемными пререканиями; совсем безвестный, он вскоре после его помилования умер в каком-то уголке Парижа. Отважнейший и храбрейший в войне против войны, оказавшийся на высоте в свой час, имевший задатки к тому, чтобы стать одной из крупнейших фигур нашей эпохи, сегодня он полностью забыт - и я, быть может, один из последних, кто вспоминает о нем с благодарностью за выступления его "Демэн" во время войны.

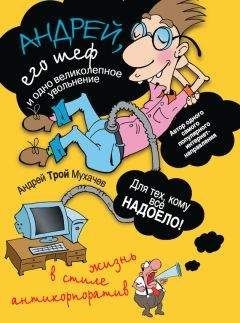

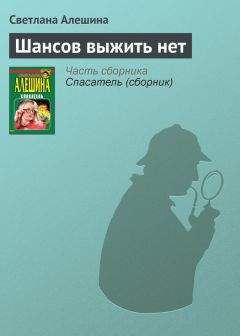
![Александра Гейл - Дневник любовницы мафии [СИ]](/uploads/posts/books/4209/4209.jpg)