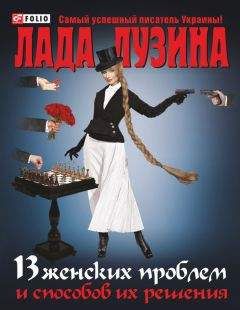Георгий Гачев - Как я преподавал в Америке
Подчинить пальцы надо пианисту! Плоть чтоб безотказно служила Духу и воле, и музыкальной идее в душе, и образу. Как балерина свое тело тренирует.
Но ведь и ты — тоже профессионал — редчайшей профессии: саможизния вдвоем со Словом. Его не на рынок и на службу наруже употреблять, как Литература, — но Литературу себя делать. Литерой дышать, как воздухом. Чтоб сопровождала каждый вдох и шаг…
Но перестань болеть отринутостию от рынка и славы — и не собой занимайся, монотонным, а разнообразные предметы бытия и духа вноси и живи ими, и интересуйся, и толкуй.
Предметы или Идеи?
Вон все славные — Ницше, Федоров — общие идеи обсуждали, взрывали и тем интересны… Но для того надо быть социальным и близко к сердцу принимать споры идей и ценностей. А это — майя и блеф и ловушка… Нет, цветочек описать, впечат- леньице от музыки, человека, от конкретного — вот что безошибочно ценно, не майя…
Суконик — когда идет спор идей, человечка видит. Как вон позавчера у Наташи Шрагиной — о неграх. А он видит милых негритянок, с кем работает в госпитале, — и понимает их изнутри, и душу, и жалеет.
Так и христианство велит. Общие идеи и задачи просты и ясны: любить, сострадать, помогать. Нечего и выяснять заново — как вон Ницше или даже Федоров — пророки новые. А вот ты одного малого обогрей, вылечи от тоски и проч.
Или живописец! Яблочек несколько на столе воспиши — как Сезанн. Или старушку какую, как Рембрандт! И — навечно! Абсолют тут схвачен, обитает и излучает свою божественную энергию.
Это вчера мы с Инной в Метрополитен-музей ходили, искусство калейдоскопом стран и эпох снова навалилось.
Саскию Рембрандт — и в обличии Беллоны, богини войны, в доспехах рыцарских нарисовал, как натуру используя. И себя — автопортреты. Так и ты все Светлану да себя — восписываешь, анализируешь.
По Мэдисон-авеню проходили, где галереи. Японские карликовые деревца продают в одном магазине: формой — сосна, а в горшке! Но ведь вывести было надо сорт такой — столетиями, микросовершенствованиями выделывалось существо.
Но так же подобно и мать детей выхаживает — любовию и лечением. Вижу Светлану с дочерьми нашими — сколько вложено! Вся ткань их тел и чувства душ — Светланою пропитаны, воспитаны, сочатся.
Вижу, как трепещет в кухоньке — Лариске еду какую поднести. А до того — в магазинах отстоять, «достать». А вечером На- стину душу выслушивает, гармонизует.
Покорны глаза и лица у Рембрандта: не заносятся, а терпят и сострадают и понимают. Все смотрят слегка вниз, наклоненно, смиренно.
О, как ценю малое делание — на фоне все время великих потуг что-то великое делать — в России, в СССР, в политике и переустройке сейчас! И снаружи быть, красоваться — вон он, какой я, смотрите!
1.45. Присяду. На миг — и то хорошо: одуматься, дыхание души нормализовать словом, мыслию.
Позвонил Ллойд Фишель из Калифорнии — сказал, что слух прошел, что в Москве не принимают доллары. А я собирался везти «трэвел-чеками» — оберут 5 долларов с сотни, да еще и не получишь. Так что решил поступить, как Димка велит: тут главную сумму оставить. И ведь если мне квартиру там — так продают уезжающие, и они заинтересованы даже получить не там, а за рубежом эти доллары…
Finita la comedia, или представление окончено
1.1.92. В аэропорту Нью-Йорка. Рад, что выскребся от Суконика. И он рад, что отделался от меня.
Наказан на 108 долларов: перевес ящика на 8 фунтов! Мог в сумку отложить, если б вес знал. Взяли в благодеяние третью сумку в багаж. Я ее хотел с собой: она беззащитна, на молнии, а там фотоаппарат, и я собирался его с собой в кабину нести. Готовься не досчитаться там фотоаппарата.
Зато везу дерьма полно, что накупил на распродажах и в филантропических магазинах за 5 долларов. Теперь они обойдутся в цену новых. Лучше бы новых вещей накупил — и меньше весом.
Что ж: мой принцип — количества, как и в писаниях моих.
Но как мы раздражали в последние дни с Сукоником друг друга! Два «писателя», маменькиных сынка непрактичных. Каждый норовит свалить на другого решение и дело. Я — на него, лезу советоваться. Он — отбрыкивается: сам решай! — чтобы не нести ответственности за совет. Как капризный мальчик отбрыкивается. А я навалился на них: помогать мне.
В общем — разгром под конец и глупость.
Теперь вопрос: рассказывать ли своим или утаить?.. Зачем еще расстраивать потерей 20 тысяч рублей под конец, ни за что?
Тяжко видеть в другом зеркало себя и своей беспомощности и невзрослости. Мы «достали» друг друга, надоели. Слишком надолго я насел на них.
И как решительно он отказался заниматься моими делами! Как Юз. Фу! Ладно! Как вчера голоса милых звенели, когда им прозвонился! «Скажи еще спасибо, что живой!» (хотя тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!)
И посадка запаздывает. И еду с дурным настроением — еще сутки! Но переломи. «Игрово!» Учись терять!
И даже рассказывать, писать ему в письме нелепо, что дурак я: малюсенький дорогой фотоаппарат оставил в беззащитной сумке, а мог взять в карман вместо дурацкой бутылки шампуня, что Юз навязал вместе со сковородкой.
Ну что ж?! Едешь на мучения. Вот они и начинаются. Мучения — от глупости — тебя и всей страны. От незнания меры. Но какое зло — к практичным, к умельцам!
Постскриптум
18.4.95. Перечитал вчера: интересно, конечно, но и — совестно. Односторонние уразумения тогдашнего «текущего момента», пришпиленные печатью, завыглядят как то, что я ВООБЩЕ считаю, «как думаю по данному вопросу», тогда как и во мне все текуче — и самоопровергаюсь постоянно, роскошь себе противоречить позволяю: ведь смертен, срочен мой умишко и по частичкам лишь постигать и высказывать Бытие и Сомысл в силах — в том числе, и что к чему в Истории, и в России, и в Америке, и каков человек каждый…
И человеческий образ мой вырисовывался малопривлекательным, а где — и отталкивающим. И мысли многие неверны, и прогнозы ошибочны. Особенно стыдно за характеристики и суждения о людях, что ненароком попадают в орбиту моей жизни и настроения — естественно, трепетного и переменчивого… И если о ком-чем сказал неверно, недружелюбно или плохо, — это о МОЕЙ плохоте свидетельствует, а не об объекте моего высказывания злого. Прошу принять мое повинение. Жгут меня эти места. Но жанр «исповести» не допускает ретуши. И потому:
И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю.
А кто отвечать, опять же, будет — Пушкин? — Да, Пушкин.
Примечания
1