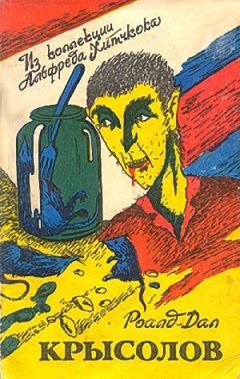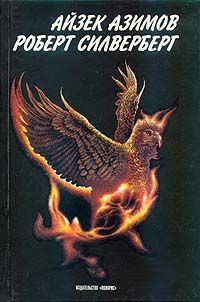Юлия Аксельрод - Мой дед Лев Троцкий и его семья
Из книги Надежды Улановской, Майи Улановской «История одной семьи» [1953]
Н. Улановская Из раздела «Рассказ матери»
Прибыла к нам пожилая повторница, еврейка, кажется, ее звали Матильда. Ее положили к Этель Борисовне в стационар, я приходила туда и познакомилась с ней. Однажды напоролась на скандал. Пришел большой этап, и в стационар попала отвратительная баба, барахло с большими претензиями, бывшая дворянка. И потребовала, чтобы Матильда (оставлю за ней это имя), которая была моложе ее, уступила ей свое место на нижних нарах. Этель Борисовна сказала: «Я здесь решаю, кто тяжелее болен. Я ее наверх не подниму – ей нельзя, а вам – можно». – «Ну, конечно, евреи всегда друг для друга стараются!» Кое-кто из больных тоже высказался против евреев. Матильда испугалась, что у Этель Борисовны будут из-за нее неприятности, разволновалась и настояла на том, чтобы ее сейчас же выписали из стационара. Я поговорила с той бабой, сказала, что антисемитизм нынче в моде, наш опер будет ею доволен. И ушла к себе в барак. Вскоре приходит Матильда. О ее деле я ничего не знала. Обычно было известно, кто за что сидит. Кто вдавался в подробности, а кто нет. Матильда вовсе о себе не рассказывала, а прямо спросить: «За что сидите?» – было неловко. И вдруг она говорит: «Надежда Марковна, вы меня поразили. Чувствуется, что вы их не боитесь. А я всю жизнь боюсь. Наверное потому, что у меня очень страшное дело. Никому я об этом не рассказываю, но вам доверю. Я – племянница Троцкого». Мы шли по зоне, она сказала это, оглядевшись по сторонам. И мне самой стало страшновато. Она продолжает: «С девятнадцати лет живу с этим клеймом. Сижу в третий раз. На последнем следствии меня обвиняли и в том, что я рассказываю об этом, и в том, что скрываю».
В мордовских лагерях сидели еще две родственницы Троцкого. И на Колыме, ты говоришь, была его племянница. Сидела вся его родня: и братья, и племянники, и мужья племянниц, и жёны племянников. С Троцким они невесть когда и встречались. Единственная родственница, с которой он действительно поддерживал отношения до революции и после, – это поэтесса Вера Инбер [274] . И она единственная не пострадала. Матильда ужасалась: «Какой же ценой она купила свободу?!» Мы ходили с ней до самого отбоя. Она говорила: «Я выросла среди людей, которые всего боятся. И все, кто с нами общался, тоже боялись. Вы первый человек, в котором я не чувствую страха. Может быть, так и следует жить?» А я уже пришла к выводу, что в жизни нет ничего страшнее страха. И действительно не боялась.
Три дня Матильда встречала меня в обеденный перерыв возле столовой и приходила ко мне в барак по вечерам. А на четвертый день умерла. Я вернулась с работы, умылась, иду в столовую. У входа – толпа. Подхожу и вижу: она лежит мертвая. Этель Борисовна говорила, что Матильда смертельно больна. Уход из стационара, возможно, ускорил ее конец. Я пошла в стационар, где лежала эта стерва, которая ее выжила, и сказала ей пару теплых слов: «Радуйтесь, еще одну еврейку удалось угробить». Она обиделась: «Разве я виновата? Я – что? Я – ничего».
Мы похоронили Матильду на кладбище возле зоны. Нашу бригаду, предназначенную для таких незапланированных работ, послали рыть могилу. На вахте труп, как положено, проткнули штыком. Мы копали яму, и она наполнялась водой. Гроб опустили прямо в воду, и он поднялся вверх. К ноге привязали бирку. Нам разрешили ее одеть. Когда-то она жила за границей, и среди ее вещей мы обнаружили плед и нарядное платье. Кто-то из бригады пожалел было вещи, но все-таки мы завернули ее в этот замечательный плед.
Из книги Б. Рунина «Мое окружение»
Осенью пятьдесят третьего года мы с женой впервые поехали в Коктебель. После смерти Сталина да еще недавнего ареста Берии жизнь уже не казалась такой безнадежно мрачной. Разумеется, для исторического оптимизма данных было еще очень мало. За редким исключением, прежние начальники сверху донизу продолжали сидеть в своих креслах и не собирались их кому-либо уступать. В области идеологии и культуры явственных послаблений не наблюдалось, прежние лозунги и постановления сохраняли свою директивную обязательность.
Но все же кое-какие новые тенденции уже носились в воздухе, и нам, литераторам, это стало ясно даже не столько в связи с отменой «дела врачей», сколько в связи со снятием Симонова с поста главного редактора «Литературной газеты». То есть того органа, где сразу после смерти Сталина была опубликована памятная передовая, написанная на основе выступления Симонова на писательском траурном митинге.
Я был на этом митинге, состоявшемся в помещении нынешнего Театра киноактера (нового здания ЦДЛ тогда еще не было даже в проекте). Некоторые мои друзья считают тот митинг последним писательским сборищем, проникнутым откровенно фашистским духом, насыщенным фашистской фразеологией, отвечавшим всем процедурным условностям, присущим фашистской иерархической структуре. Наверно, они правы, хотя четыре года спустя я снова сидел в том же зале, в той же атмосфере ненависти к интеллигенции – на собрании, выбросившем Пастернака из писательского Союза.
И все же исключение Пастернака из Союза советских писателей, пожалуй, следует рассматривать как одно из мерзких проявлений хрущевского, а не сталинского стиля руководства. Даже в то время оно воспринималось уже не столько как злодейство, сколько как дремучее невежество. Это был защитный рефлекс дикаря, столкнувшегося с рафинированной заоблачной культурой. Сталин мог загубить – и загубил – тысячи талантов, но никому из них он не отказал при этом в праве на цеховую принадлежность. Он более или менее представлял себе, с кем и с чем имеет дело. Он, конечно, ненавидел, но по-своему чтил даже Мандельштама. И исключил его, как и многих других писателей, не из Союза, но из жизни. Сталин считался с мировым общественным мнением и потому уничтожал художников, делая вид, что карает их не за образы, не за искусство, а якобы за шпионаж и диверсии, как Пильняка. Или убивал их втихаря, как Бабеля. Наконец – из-за угла и без объяснений. Как Михоэлса.
Хрущев, а потом и Брежнев этого по темноте своей не понимали. Переняв у Сталина его подозрительность к интеллигенции и враждебность к «неправильному» искусству, они в отличие от вождя народов считали возможным наказывать художников административно именно за их творения…
Из статьи Наталии Верхолаз
Внучка Троцкого [275]
Я увидела ее впервые в 1950 году. В передней молодежного общежития неподвижно сидела прелестная девушка. По ее бледному лицу медленно катились слезы. Она их не вытирала. Я невольно попыталась ее успокоить, увести в свою комнату, но она сказала, что должна ждать здесь, за ней придут, что она сюда, в Балхаш, сослана и что ее зовут Саша Моглина.
Вскоре ее увели и поселили в соседнем бараке. По-видимому, эта комнатка была раньше кладовкой. В этом узком пенальчике помещались лишь две койки и между ними тумбочка. На соседней койке спала другая ссыльная со своим сыном лет семи-восьми.