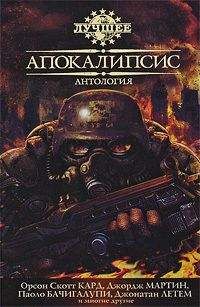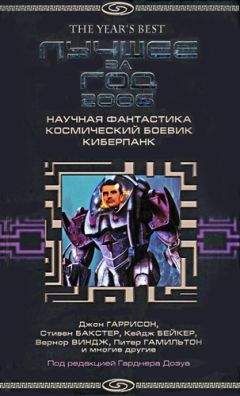Вернон Кресс - Зекамерон XX века
Когда Онуфрию исполнилось пятнадцать лет, он стал просить отца разговаривать с ним по-английски — тот, по словам матери, свободно владел этим языком. Но Перун-старший твердо возразил, что крестьянину знать языки ни к чему, а будучи убежденным, что такие дурацкие мысли появляются от безделья, постарался впредь побольше нагружать сына работой.
Пришла беспокойная весна 1939 года. В трактире аптекарь читал газету и, обращаясь к посетителям этого заведения на скверном украинском языке, растолковывал новости. Он объяснял, что немцы жаждут разделить Польшу, но бояться их нечего: немецкие танки покрыты не броней, а раскрашенной фанерой! Напрасно, мол, чехи дали себя в прошлом году запугать и воевать не пошли. Но у них были все министры евреи — от этих лучшего нечего ждать. Старики, слушая его, посасывали свои трубочки и кивали седыми головами — они-то знали, какие чехи вояки, служили ведь вместе с ними в кесаро-королевской австрийской армии.
— У нас все воины — орлы! — продолжал аптекарь. — Послушайте, что установила комиссия нашего сейма, которая инспектировала войска: «Организация и боеспособность польской армии превыше всех похвал… не уступают французской армии… Кавалерия лучшая не только в Европе, но, по всей вероятности, в мире… Дух офицерства и мораль рядового состава бесподобны…» [84]
Случалось, Онуфрий без ведома отца заглядывал в трактир, чтобы узнать о событиях в мире, и помогал аптекарю переводить газетные сообщения. Тот иногда давал ему читать медицинские книги, по его просьбе парень переписал своим аккуратным почерком истрепанный рецептурный справочник, усвоив при этом многие латинские названия.
Поляков Онуфрий вообще не любил — он знал из украинской литературы, с которой его познакомили приезжавшие на каникулы студенты, как шляхта веками воевала с украинцами, да и польские служащие вели себя по отношению к его односельчанам заносчиво, поэтому к патриотической трескотне в газетах и школьных учебниках он относился равнодушно. Другое дело — немцы, у них был образцовый порядок, так по крайней мере говорили старики, побывавшие во время мировой войны в Германии. А учитель в школе уверял, будто там не люди, а бездушные механизмы, которые только и знают, что кричать да маршировать, они требуют нашу землю,
Гданьский коридор, который всегда был польской территорией, и Верхний Сленск, потому что там угольные копи. Но Онуфрию это тоже нравилось в немцах — что они враждебны к полякам. Ведь никто не говорил, что Германия против украинцев.
Радиоприемник, выставленный в аптеке, ежедневно передавал новости, но была страдная пора, и Онуфрий мало о них знал. В последние дни августа по радио только и было слышно: «Гданьск, Гданьск», а если аптекарь искал другую волну, из приемника вырывалось то «Данциг», то «Зиг хайль!».
Из деревни вдруг исчезли поляки, их мобилизовали, а также молодых украинцев, успевших отслужить в польской армии — эти не очень торопились идти в город, на пункты сбора… А первого сентября повсюду зашумели: «Война!» Запретили выходить вечером на улицу, велели плотно занавесить окна. После обеда над деревней пролетели на север большие, широкие самолеты с черными крестами на боках. Но бомб, как обещал аптекарь, они не сбросили.
Вечером в трактир пришел жандарм и, вместо того чтобы выпить поднесенный стаканчик и уйти, вдруг велел всем разойтись. Некоторые из присутствующих вспомнили личные счеты и избили его изрядно, а заодно на всякий случай также еврея-трактирщика. Напившиеся бесплатно, — трактирщик подливал им, под страхом кулачной расправы, — они вспомнили еще одного еврея, москательщика, и разгромили его лавочку. Самого Лейбовича не оказалось дома, он, видно, почуял недоброе и скрылся незаметно со своей многочисленной семьей. Растащили все, что попало под руку. Это были вполне солидные, степенные люди, которые в нормальное время навряд ли стали бы трогать чужое добро, но сбежал еврей — наверно, у него нечистая совесть, раз сбежал!
На следующее утро появились мотоциклисты в касках и темных плащах. Они поговорили со стариками на немецком языке, а затем совсем близко началась стрельба. На полном ходу в деревню ворвались большие серо-зеленые, в разводах, танки, с таким же, как на самолетах, крестом на боку. Люки башен были откинуты, из каждого выглядывал солдат в кожаном шлеме. Танки резко затормозили на площади. Один немец выскочил, быстро поднялся на колокольню и осмотрел окрестность из бинокля. Потом подбежал к переднему танку, что-то доложил и вернулся на свою машину. Она двинулась к переправе через реку и, наведя пушку назад, несколько раз выстрелила и уехала вслед за остальными.
Крестьяне, попрятавшиеся по домам, вышли на улицу, обсуждая увиденное. Спустя полчаса появились первые польские солдаты. Командовавший ими молодой капитан сказал аптекарю, который бросился к нему с расспросами, что немецкие танки объехали подготовленные оборонительные рубежи, обстреляли из пулеметов польские укрепления и, не обращая внимания на ответную винтовочную пальбу, повели дальше свое наступление.
— Будем к своим пробиваться, — добавил он, закуривая и обводя глазами усталую роту. — Не знаю только, где они… Хотели сделать, как нас в училище учили — подпустить близко и ударить пулеметом по амбразуре, но они опередили и перебили наш расчет одной очередью…
Капитан приказал сержанту с двумя солдатами вернуться на позицию и забрать брошенный пулемет, а рота продолжала свой отход. Вечером они вернулись, уже без оружия, под конвоем бронетранспортера с немцами. На следующее утро вся деревня оказалась забитой немецкими солдатами. Донельзя запыленные, они купались около моста, плескались прямо на площади у водокачки, заходили в дома и пили молоко. Потом скомандовали сбор, и они исчезли. До ночи по улице двигались пехотинцы и моторизованные части, но никто больше не останавливался.
Онуфрий весь день провел на площади. Он понимал довольно хорошо, что говорили между собой солдаты.
4Прошло две недели, и война кончилась. Немцы назначили украинского старосту, который подчинялся «уполномоченному по сбору сырья и уборке урожая». Это был пожилой немец с красным лицом, который всегда ходил в коричневой форме, старый, заслуженный нацист. На груди его был большой орден Крови, полученный, как он объяснял, за ранение в уличных боях с большевиками. Говорил он на непонятном баварском диалекте и требовал, чтобы ему беспрекословно подчинялись. Когда немцу кто-то пытался перечить, он выхватывал парабеллум из всегда расстегнутой кобуры и, помахивая им под носом провинившегося, несколько раз стрелял в воздух. Если Зедлмайер бывал пьян, крестьяне разбегались и прятались в домах: немец уже не размахивал пистолетом, а стрелял в любого, кто попадался ему на глаза, будь то животное или человек. При этом, почти не целясь, он всегда бил в точку. Нескольких крестьян он поранил, но никто не смел на него жаловаться, ибо приезжее начальство разъяснило населению, что уполномоченный «есть немецкая власть в деревне и все, что он говорит — закон». Особенно избегал встреч с этим немцем Онуфрий: нацист повадился, чуть что не так, первым делом винить переводчика.