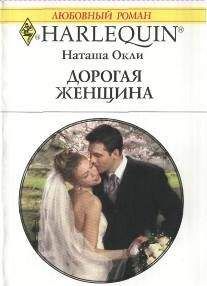Петр Вайль - Стихи про меня
Две трети россиян в начале XXI века полагают, что западная культура оказывает негативное воздействие на жизнь в России. По какому историческому пути должна идти Россия: "свой путь" — больше половины, "советский" и "общий путь европейской цивилизации" — примерно поровну, процентов по двадцать. В перечне главных мировых событий XX века на первом месте с большим отрывом — Великая Отечественная война, на втором — полет Гагарина. Список самых выдающиеся личностей всех времен и народов возглавляют Петр, Ленин, Пушкин, Сталин, Гагарин, Жуков; единственный в десятке иностранец — Наполеон — на седьмом месте.
Название места "Ярмарки товаров, бывших в употреблении" озадачивает: почему Марк, откуда? Нетрудно было бы узнать, но неохота, пусть остается таинственно и многозначно. Платформа Маркс. Платформа Мрак. Идейная платформа. Платформа Марс.
Может, была затея выстроить вдоль Савеловской железной дороги все четыре имени подряд, с Матфея начиная, но получилось только со вторым. Неужели никто не вздрогнул, называя? Впрочем, сказано: "Они своими глазами видят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют" (Мк. 4:12). Ахматова говорила: "Христианство на Руси еще не проповедано". А Пильняк, словно отвечая на это, объяснял, что вместо слова — сама жизнь: "Россия трудная страна: живешь в ней и идешь сплошною Страстною пятницей".
Строчки про доску к сараю — не формула (к счастью, Гандлевский, с его точностью вкуса и меры, формул не любит и не ищет), но яркий и ёмкий образ, сжато описывающий огромное явление. В "Стансах" у Гандлевского сказано более публицистично, те два стиха я тоже твержу про себя: "...Раз тебе, недобитку, внушают такую любовь / это гиблое время и Богом забытое место". Ничего не поясняется: почему гиблое, почему забытое, почему недобиток, почему внушают — но всё правда. Настоящая: поэтическая и просто — про себя, кто написал, про меня, кто читает. Старуха с баночками моргает и шамкает: "Купите, сынки". Сынки платят, сдачи и банок брать не хотят, старуха не понимает, потом, поняв, плачет. Сынки уходят.
РУССКИЕ МАЛЬЧИКИ
Евгений Рейн 1935
Авангард
Это все накануне было,
почему-то в глазах рябило,
и Бурлюк с разрисованной рожей
Кавальери казался пригожей.
Вот и Первая мировая,
отпечатана меловая
символическая афиша,
бандероль пришла из Парижа.
В ней туманные фотоснимки,
на одном Пикассо в обнимку
с футуристом Кусковым Васей.
На других натюрморты с вазой.
И поехало и помчалось —
кубо, эго и снова кубо,
начиналось и не кончалось
от Архангельска и до юга,
от Одессы и до Тифлиса,
ну, а главное, в Петрограде —
все как будто бы заждалися:
"Начинайте же, Бога ради!"
Из фанеры и из газеты
тут же склеивались макеты,
теоретики и поэты
пересчитывали приметы:
"Значит, наш этот век, что прибыл...
послезавтра, вчера, сегодня!"
А один говорил "дурщилбыл"
в ожидании гнева Господня.
Из картонки и из клеенки
по две лесенки в три колонки
по фасадам и по перилам
Казимиром и Велимиром.
И когда они все сломали
и везде не летал "Летатлин",
догадались сами едва ли
с гиком, хохотом и талантом,
в Лефе, в Камерном на премьере,
средь наркомов, речей, ухмылок
разбудили какого зверя,
жадно дышащего в затылок.
1987
Острое переживание искусства — одушевление искусства: оно не понарошке, оно сама жизнь. Живопись как живое писание. Так у Рейна в стихотворении "Ночной дозор" выходят за раму персонажи Рембрандта, воспринимаясь через личную судьбу — свою и своей страны: "Этот вот капитан — это Феликс Дзержинский, / этот в черном камзоле — это Генрих Ягода. / Я безумен? О нет! Даже не одержимый, / я задержанный только с тридцать пятого года. / Кто дитя в кринолине? Это — дочка Ежова! / А семит на коленях? Это Блюмкин злосчастный!"
О классике — тяжелой поступью четырехстопного анапеста. В "Авангарде" - разноударный дольник, захлебывающийся торопливый бег русского fin-de-siecle. Рейн вообще ритмически разнообразен.
Одическая торжественность: "Семья не только кровь, земля не только шлак / И слово не совсем опустошенный звук! / Когда-нибудь нас всех накроет общий флаг, / Когда-нибудь нас всех припомнит общий друг!" Кимвал — так, кажется, называется. Такие стихи предназначены для массового скандирования или для смешанного хора с оркестром.
Мотив городского — полублатного — романса, без особой заботы о рифмах и лексической оригинальности: "Ты целовала сердце мне, любила как могла", "Что оставил — то оставил, кто хотел — меня убил. / Вот и все: я стар и страшен, только никому не должен. / То, что было, все же было. Было, были, был, был, был..."
Просто, как и сказано, песенка: "Жизнь прошла, и я тебя увидел / в шелковой косынке у метро. / Прежде — ненасытный погубитель, / а теперь — уже совсем никто. / Все-таки узнала и признала, / сели на бульварную скамью, / ничего о прошлом не сказала / и вину не вспомнила мою. / И когда в подземном переходе / затерялся шелковый лоскут, / я подумал о такой свободе, / о которой песенки поют". Сердечная, доходчивая, хватающая за душу фантазия на тему "Я встретил вас, и все былое...".
О себе — безжалостно и старомодно: "ненасытный погубитель". Ключевое здесь слово "ненасытный" — это ёмкая автохарактеристика. Жадная жовиальность проступает в рейновских стихах и мемуарах — поэтическая черта, которая встречается нечасто и проявляется неоднозначно. Может быть элегантная ироничность Олейникова: "От мяса и кваса / Исполнен огня, / Любить буду нежно, / Красиво, прилежно... / Кормите меня!" Или эпатирующая откровенность Тинякова: "Я до конца презираю / Истину, совесть и честь. / Лишь одного я желаю — / Бражничать блудно да есть. / Только бы льнули девчонки, / К черту пославшие стыд. / Только б водились деньжонки / Да не слабел аппетит!" При всем внешнем сходстве — говорят совершенно разные люди, вызывающие прямо противоположные чувства.
Рейновская ненасытность восходит к героям "Авангарда": "Каждый молод, молод, молод, / В животе чертовский голод... / Все, что встретим на пути, / Может в пищу нам идти" (Давид Бурлюк, 1913 год).
В пищу идет все, но в стихах и в воспоминаниях по-разному. В послесловии к книге рейновских мемуарных баек "Мне скучно без Довлатова" близкий друг и восторженный почитатель автора называет его "великий враль". Вряд ли похвала для мемуариста. Устные рассказы Рейна легендарны, мне приходилось их слышать не раз — это высокий класс неостановимой гиперболы. Чего стоит упомянутая в том послесловии история, как Есенина убивали топорами в бане Брюсов и Луначарский. Но от книжных воспоминаний ждешь другого. Однако Рейн не поддается цитированию даже в простейших деталях. Если написано, что за столом сидела испанская герцогиня, владелица замка под Саламанкой, сомнения возникают в каждом пункте: замок не под Саламанкой, не герцогиня, не испанка, да и было ли такое застолье вообще.